НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Научное рецензируемое периодическое электронное издание
Выходит с 2014 г.
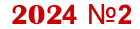
Гипотезы:
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
А.Я. Флиер. Системная модель социальных функций культуры
Дискуссии:
В ПОИСКЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (рубрика А.Я. Флиера)
А.В. Костина, А.Я. Флиер. Тернарная функциональная модель культуры (продолжение)
В.М. Розин. Особенности и конституирование музыкальной реальности
Н.А. Хренов. Русская культура рубежа XIX-XX вв.: гностический «ренессанс» в контексте символизма (продолжение)
Аналитика:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
И.В. Кондаков. Кот как культурный герой: от Кота в сапогах – до Кота Шрёдингера
Н.А. Хренов. Спустя столетие: трагический опыт советской культуры (продолжение)
И.Э. Исакас. Гипотеза. Рождественская ёлка – символ второго пришествия Христа
ДУЭЛЬ
А.Я. Флиер. Неизбежна ли культура? (о границах социальной полезности культуры) (Философская антиутопия)
А.А. Пелипенко. Культура как неизбежность (о субъектном статусе культуры)


Д.Г. Горин
Взаимодействие идентичностей
в контексте особенностей репрезентации «места»
в культуре России
Аннотация. В статье рассматривается история практики государственной власти в России к укоренению населения на местах проживания, препятствия его мобильности, в навязывании «местной» идентичности и культурной унификации. Подчеркивается поверхностный характер успехов в этой области, который стал еще более эфемерным в современных условиях культурной синтезации.
Ключевые слова. Культура, укоренение населения, местная идентичность, запреты на перемещение, культурная унификация.
Рассмотрение взаимодействия идентичностей в связи с современными изменениями в репрезентации «места» имеет ряд эвристических преимуществ, поскольку интеграция сообществ в значительной мере характеризуется локальной определенностью. «Чувство места» является важным, но динамичным и контекстуально обусловленным фактором формирования идентичностей и их взаимодействия [1]. Несмотря на повышение роли экстерриториальных факторов, в современных условиях «место» остается локусом взаимодействия и даже столкновения разнородных идентичностей, а процессы глобализации и локализации заставляют рассматривать глобальные противоречия в их локальном измерении.
Репрезентация «места» в истории и культуре России не была статичной, она регулярно подвергалась влиянию двух противоположных тенденций. Первая основывалась на передаче и сохранении культурного опыта без необходимости его локального закрепления. Вторая тенденция состояла в стабилизации связей между социальными субъектами и местом их локализации. В современной России взаимодействие между этими двумя тенденциями становится более сложным, что связано, в частности, с противоречиями между территориальными и экстерриториальными стратегиями концентрации разных форм капиталов – не только финансового, но прежде всего социального и культурного. С одной стороны, в последние десятилетия усиление территориальных детерминант культурной идентификации связано с ренессансом этничности, исчерпанностью сельско-городских миграций, автаркизацией локальных экономических практик и возвратом некоторых сообществ к доиндустриальным формам жизни. С другой стороны, целый ряд факторов способствует эволюции стратегий социального поведения в плане его экстерриториальности. Среди этих факторов можно назвать развитие «дигитальных» медиа, интеграцию отдельных отраслей экономики в глобальные транснациональные структуры, активизацию трудовой и образовательной миграции на фоне развития крупных региональных центров и упадка периферийных районов, рост пассажиропотока. Но люди в большинстве своем по-прежнему живут в своих локальных мирах, имеющих территориальную определенность и культурные границы, определяющие локальные идентичности. И хотя эти идентичности испытывают воздействие глобальных тенденций, уравнивающих представления о качестве, комфорте, красоте, это не означает, что они перестают существовать. Даже в интернете возникают новые локальности, отражающие территориально определенные группы коммуникаций. На процессы глобализации локальные сообщества реагируют по-разному: не все они восприимчивы к глобальным культурным влияниям, некоторые из них закрываются, переходят на автономное существование или обращаются к фундаменталистским ценностям.
Существуют, таким образом, очевидные противоречия между территориально ориентированными сообществами и экстерриториальным характером целого ряда видов деятельности, которые не имеют границ и организуются по сетевому принципу. Поэтому тенденции культурной изоляции сочетаются с необходимостью интеграции в экстерриториальные структуры и отношения.
Взаимодействие территориальных и экстерриториальных факторов идентификации в истории и культуре России имеет существенные особенности. Эти особенности становятся более очевидными, если сопоставить два параметра социальной регуляции культуры: во-первых, динамику ориентации на поддержание многообразия культурной жизни или ее унификацию, во-вторых, периодичность принятия мер, направленных на территориальное закрепление населения в его локальных мирах.
Рассмотрим сначала первый параметр. Многообразие оснований культурной идентичности определяется повышенной гетерогенностью российской культуры. О «дистанциях огромного размера» и о разных «исторических и культурных возрастах», которые совмещены в российской культуре, писал еще Н.А. Бердяев [2]. В этих условиях идентичность с макросообществами воспроизводила себя в виде более или менее интегрированных частных проявлений. Во взаимодействии локальных идентичностей большую роль играют структуры макросоциального центра, которые представляют не только пространственную организацию власти, но, прежде всего, имеют ценностно-смысловое выражение, являясь, по словам Э. Шилза, «центром порядка символов, ценностей и мнений, которые правят обществом» [3]. Наряду с центром выделяются многообразные периферийные ценностно-смысловые системы, поддерживающие идентичности многообразных периферийных сообществ. Поэтому взаимодействие локальных идентичностей следует рассматривать с точки зрения не только макроинтеграции культуры и общества, но и микромеханизмов обретения солидарности локальными сообществами и более универсальными общностями. Локальные идентичности могут взаимодействовать друг с другом как минимум двумя основными способами. Во-первых, непосредственно друг с другом, создавая на основании самоорганизации и диалога более универсальные основания идентификации, и, во-вторых, опосредованно – через структуры макросоциального центра, встраиваясь в иерархическую структуру идентификации, в которой многообразные «малые традиции» интегрируются посредством взаимодействия с «большой традицией» (если использовать терминологию М. Сингера [4]). Однако в России культурное многообразие пространства регулярно вызывало стремление власти к его упрощению и унификации. В результате локальные идентичности интегрировались центром в иерархическую ценностно-смысловую структуру, основание которой составляла макросоциальная система мышления, которая не должна была иметь явной связи с какими-либо локальными (в том числе этническими) источниками. При Петре I, например, в качестве такой универсализированной системы мышления из западной политической традиции была заимствована имперская идея, которая в различных модификациях проявлялась в последующие периоды.
Разнообразие локальных культур усилиями центра периодически уравнивалось или, наоборот, усиливалось, но полная их нивелировка никогда не была возможной. Поэтому динамика ориентации на поддержание многообразия культурной жизни или ее унификацию обретает волнообразный характер. В 1920-е годы народы России получили свою письменность, а вслед за этим и свою печать. Административная деятельность частично осуществлялась на родных языках народов СССР. Однако в 1930-е годы происходила унификация культурного пространства: письменность народов СССР была переведена на кириллицу, изучение русского языка стало обязательным для нерусских народов, а сфера применения других языков резко сократилась. Идеологический диктат стал основой для создания унифицированной идентичности советского народа. Но даже самые жесткие меры могли сохранять свою эффективность на протяжении весьма ограниченного периода. Всплеск этнического и национального самосознания наблюдается уже в годы хрущевской «оттепели», а на рубеже 1980/90-х годов российское общество вступило в период роста территориальной мобильности. Господство единомыслия сменилось множественностью интерпретаций социальной реальности. Ответом на размывание более широких идентичностей стало стремление российских граждан к обретению идентичности с локальными группами (семейно-родственными, дружескими, клановыми, этническими). Неспособность власти предложить стратегии управления дифференцирующимся пространством привела к распаду властных структур в 1991 году. Весьма симптоматично, что «укрепление вертикали власти» в начале XXI века основывалось на ограничении прав российских регионов и унитаризации системы власти.
Любопытно, что такая волнообразная логика смены тенденций унификации культурного пространства ростом его многообразия характерна не только для ХХ века. Например, в Уложении 1649 года воеводам наказывалось «крепко беречь инородцев», а сами «инородцы» имели ряд преимуществ (они практически не знали крепостного права, долгое время были освобождены от военной службы, этническая элита приравнивалась в правах к дворянскому сословию). Периоды правления Екатерины II, Александра I и Александра II отмечены укреплением сотрудничества власти с исламскими народами, утверждением принципа веротерпимости и ограничением деятельности миссионеров, приводившей к обострению межэтнических отношений. После создания земств в период правления Александра II, участие этнических сообществ в общественной жизни обрели институциональные основания. Однако в послепетровскую эпоху наблюдалась волна массовой насильственной христианизации неправославных народов, разрушение нехристианских святынь и подавление этнических восстаний. Очередные волны культурной унификации в XIX веке приходятся на периоды правления Николая I и Александра III. Политика Николая I характеризуется насильственным крещением неправославных народов и снижением доли «инородцев» в бюрократическом аппарате. Политика русификации и христианизации неправославных народов вернулась в период царствования Александра III, когда была фактически свернута деятельность земств, издания о культуре народов России попали под запрет, а по стране прокатились еврейские погромы.
Ослабление центра и критический рост культурного многообразия на микроуровне вел к дестабилизации, выход из которой виделся в насильственной унификации культуры и общества на основе жесткой политики макросоциального центра. В свою очередь, унифицирующие усилия центра, не соответствующие реальному культурному многообразию, с периодическим постоянством оборачивались срывом системы макрорегуляции культуры и общества, а в радикальном варианте – ее распадом, что провоцировало критическое сужение идентичностей до узколокальных. Политика макросоциального центра не только унифицировала и синхронизировала разнообразное культурное пространство, но создавала также новые линии социальной и культурной дифференциации, которые вели к дискретности локальных идентичностей. «Главным механизмом, через который центр достигал своих целей, – писал Ш. Эйзенштадт об особенностях макросоциальной регуляции в России, – было принудительное разобщение между политически властными элитами, которые были также носителями культурного порядка, особенно в его политических аспектах, различными институциональными элитами и идеологами моделей неполитического культурного порядка, с одной стороны, а с другой – экономическими и образовательными элитами и выразителями солидарности главных аскриптивных коллективов. Доступ таких элит друг к другу и особенно к центру был ограничен центральной политической элитой, хотя полностью этого не удавалось достигнуть» [5].
Локальное многообразие таким образом трансформировалось в иерархическую систему, что способствовало ослаблению горизонтальных связей между локальными мирами, исключая возможность образования новых потенциальных центров. Но каждый раз, когда задача синхронизации многообразных культурных тенденций и государственно-властных регуляторов решалась путем централизации управления и принятия мер принудительного характера, разнообразные сегменты фрагментирующегося и атомизирующегося общества имитировали лояльность и проявляли самоорганизацию в разрозненных теневых (не обязательно криминальных) сферах. Разрастание теневой сферы в позднем советском обществе стало результатом десинхронизации сферы управления и реальных социальных и культурных тенденций. В этих условиях «вертикаль власти» оказывалась неспособной управлять целыми сегментами общественной жизни, а искаженная горизонтальная самоорганизация, будучи вытесненной в теневые топосы, не могла ограничивать тенденции дезинтеграции, что отразилось, в частности и на неофициальном искусстве [6]. Если власть идеологизирует и поддерживает лишь основную культурную тенденцию, то частные и периферийные культурные поиски фрагментируются и вытесняются в те сферы, где возможности их развития перекрываются, как это было в позднем советском обществе.
Динамика ориентации системы регуляции культуры на поддержание многообразия культурной жизни или ее унификацию дополняется колебаниями еще одного параметра – степени жесткости зависимости культуры от территориального закрепления населения в его локальных мирах. Любое стихийное движение локальной жизни на безграничных географических пространствах остро ставило проблему воспроизводства пространственной структуры власти. Самым простым и понятным способом решения этой проблемы было поддержание пространственной организации власти путем локального закрепления населения и блокирования его произвольных передвижений в географическом пространстве. Происхождение этой особенности объясняется дефицитом рабочей силы при отсутствии дефицита на землю, в отличие от Европы, где наблюдался дефицит земли при отсутствии дефицита на рабочую силу. Как отмечает А. Аузан, в условиях ограниченности человеческого ресурса, казалось бы, должна возникнуть человекоцентричная система, но было найдено другое решение: «дефицитный» человек силой прикрепляется к недефицитному земельному ресурсу [7]. Одной из наиболее распространенных стратегий поведения стало «бегство»: географическое пространство сохраняло для русского человека возможность радикального «выхода» из любой социальной ситуации. Конфликты и социальные потрясения часто заканчивались не солидаристским согласием, а уходом части населения за пределы официальной социальности. Движение населения на евразийском пространстве стало существенным фактором российской истории и культуры. «Грандиозная территория Российской империи сложилась отчасти потому, что вольнолюбивые русские люди бежали от своего государства, но когда они заселяли новые земли, государство настигало их», – писал Н.О. Лосский [8].
В истории России периоды ослабления системы пространственного закрепления населения неоднократно сменялись ужесточением искусственных запретов на локальные передвижения. Например, после смуты начала XVII века всего за несколько десятилетий сложилась беспрецедентно жесткая система крепостного права, что нашло свое отражение в Соборном Уложении 1649 года. Вплоть до XIX века переход в сословие посадских из других сословий был затруднен. Даже государственный крестьянин, чтобы переехать в город, должен был получить согласие крестьянского мира на выход и согласие посадской общины на приписку к посаду. При этом до следующей ревизии он платил подати сразу в двух общинах [9]. После отмены крепостного права в 1861 году и резкого роста движения населения в последние десятилетия XIX века и первые два десятилетия XX века, стереотипы практики крепостничества возвращаются в 1930-е годы. Установленный в 1937 году запрет крестьянам покидать колхозы без трудового соглашения с новым работодателем и лишение их внутреннего паспорта – лишь отдельный эпизод этой практики. В 1940 году был издан закон, запрещавший увольнение работников по собственному желанию без согласия работодателя. Эта норма была отменена лишь в 1956 году. Среди мер, направленных на пространственное закрепление населения в его локальных мирах следует также назвать в 1930 году – Постановление СНК о засекречивании географических карт, Постановление ЦК ВКП(б) о работе по перестройке быта, Постановление ЦИК и СНК о борьбе с текучестью рабочей силы; в 1932 году – Постановление ЦИК и СНК о введении паспортной системы; в 1935 году – Постановление СНК и ЦК ВКП(б) об учете естественного движения населения; в 1938 году – введение трудовых книжек и Постановление СНК, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС о повышении трудовой дисциплины, в котором содержались меры по борьбе с «летунами», «лодырями», «прогульщиками» и «рвачами» [10]. «Постреволюционный центр, – как отмечал Ш. Эйзенштадт, – в отличие от традиционного, постоянно проводил мобилизацию периферии, не позволяя ей создавать автономные организации или обеспечить автономный доступ к центру. И в ограничениях такого рода он следовал традиционному образцу» [11].
Сопоставление описанных выше двух параметров динамики системы социальной и культурной регуляции, позволяет выявить один из парадоксов, характеризующих связи взаимодействия идентичностей с репрезентацией «места». Закрепление населения в его локальных мирах приходилось, как правило, на периоды унификации культурной жизни, а не поддержания ее разнообразия. Сталинская индустриализация, например, сочеталась с реанимацией элементов крепостнической системы (так же, как и развитие мануфактур, по мысли Петра I, должно было основываться на крепостном труде). Цель подобного рода проектов авторитарной модернизации состояла в мобилизации общества для решения военно-промышленных и фискальных проблем на основании упрощения и унификации культурного пространства. Отсюда весьма любопытный феномен, который можно назвать «поверхностным укоренением» – локальные идентичности укореняются не столько в локальных традициях, сколько в структурах идентичности, навязываемых извне («сверху»). В период жесткого идеологического диктата центра разнообразные локальные традиции в той их части, в какой они обладали интегративным потенциалом, были подчинены макроинтегративной идеологической системе, а затем распад такой системы оставлял после себя лишь те проявления укорененности, которые каким-то образом ускользали от контроля со стороны государства. «Поверхностность укорененности», ставшая следствием противоречий во взаимодействии социально-властных структур с культурным многообразием, представляет собой вполне самобытный феномен, характеризующий особенности взаимодействия идентичностей в российской культуре. Как опирающаяся на центр властная вертикаль неукоренима в локальных мирах, так и сами эти миры не в состоянии теперь воспроизводить глубинные традиции, идеологизированные, огосударствленные, а затем разрушенные. Возможно, поэтому постсоветская Россия столкнулась с проявлением локальной укорененности культурных идентичностей не в проектных и интегративных, а защитных формах. Отсюда резкое сужение жизненного пространства, которое в периоды ослабления макросоциального центра проявляется в виде этнизации сознания и развития сепаратизма.
В современных условиях взаимосвязь идентичностей с репрезентацией «места» сохраняет в некоторой степени влияние описанного выше феномена «поверхностного укоренения», но становится еще более сложной под влиянием тенденций, связанных с глобализацией и культурой постмодерна (в том числе, проявляющихся в активном внедрении стереотипов и практик общества потребления). «Поверхность» – ключевой термин, используемый для описания состояний постмодерна [12]. Плоскостное мышление приходит на смену стремлениям укорениться, проникнуть в глубины культуры. Вместо метафизического удвоения мира – поверхностная игра лицевой стороны и изнанки; вместо напряженности между вечностью и ускользающей темпоральностью – господство «реального времени»; вместо идеальных сущностей – сводящиеся к поверхностным эффектам события. Если раньше взаимодействие идентичностей требовало диалога, основанного на понимании участниками глубинных смыслов различных культур, то теперь это вовсе не обязательно, поскольку локальные культуры могут быть напрямую вовлечены в глобальную коммуникативную систему. В результате в своем взаимодействии культуры ориентированы не друг на друга, а на общие законы такой коммуникации. Культурное разнообразие, выраженное в локальных самобытностях, имеет тенденцию заместиться локально реализованной универсальной виртуальностью.
Множественность пространственно-временных измерений является сущностным признаком принципиальной многомерности и многоукладности современного российского общества, что, разумеется, отражается на характере взаимодействия идентичностей. Экстерриториальные тенденции организуются в сетевые структуры информационных потоков и позволяют расширять коммуникативное пространство личности до глобальных масштабов. Одновременно территориальные проявления социальности разобщаются, разобщаются и сами люди, что фиксируется параметрами атомизации общества (разрывом социальных связей, сужением радиуса доверия и т.п.). Хронотоп культурной идентичности в этих условиях обретает пульсирующий характер. Пульсация пространства связана с одновременным его раздвижением до масштабов глобального мышления и сужением до узколокальных миров. То же самое происходит и с социокультурной практикой: одни явления и процессы могут «отрываться» от четкой пространственной локализации и приобретать сколь угодно масштабные выражения, а другие – сужаются до узколокальных.
Проблема взаимодействия идентичностей в новых условиях состоит в том, что экстерриториальные практики управляются инструментами, принципиально отличающимися от тех, которые имеются в традиционном арсенале власти. Фактически властное влияние имеет тенденцию к экстерриториализации, однако его публичное и символическое выражение остается территориальным. В этих условиях российская культура сталкивается с характерной для нее проблемой разорванности горизонтальных связей и существующими препятствиями в преодолении замкнутости локальных идентичностей не только на основании встраивания их в иерархические структуры, но прежде всего, опираясь на процессы культурной самоорганизации и межкультурного диалога.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] The Power of Place: Bringing Together Geographical and Sociological Imaginations / Eds. J. Agnew, J.Duncan. Boston: Unwin Hyman, 1989.
[2] Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Изд. МГУ, 1990. С. 71.
[3] Шилз Э. Общество и общества: макросоциологический подход // Американская социология: перспективы, проблемы, методы. М.: Прогресс, 1972. С. 341-359.
[4] Singer M. When a Great Tmdition Modernizes: An Anthropological Approach to Indian Civilization. New York & London: Praeger, 1972.
[5] Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций / пер. с англ. А.В. Гордона под ред. Б.С. Ерасова. М.: Аспект Пресс, 1999. С. 174.
[6] Переломные восьмидесятые в неофициальном искусстве СССР / Сб. материалов; ред.-сост. Г. Кизевальтер. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
[7] О царях, «опчестве» и авторитарной модернизации. Беседа с Александром Аузаном // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2006. № 6 (050). С. 71-72.
[8] Лосский Н.О. Характер русского народа // Лосский Н.О. Условия абсолютного добра: Основы этики; Характер русского народа. М.: Политиздат, 1991. С. 276.
[9] Водарский Я.Е. Население России за 400 лет. М.: Просвещение, 1973. С. 66.
[10] Паперный В. Культура «Два». М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 330-343.
[11] Эйзенштадт Ш. Указ. соч. С. 282.
[12] Делёз Ж. Логика смысла: Пер. с фр. М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998.
© Горин Д.Г., 2017
Статья поступила в редакцию 7 ноября 2016 г.
Горин Дмитрий Геннадьевич,
доктор философских наук,
зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Брянского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы.
e-mail: dm.gorin@mail.ru

ISSN 2311-3723
Учредитель:
ООО Издательство «Согласие»
Издатель:
Научная ассоциация
исследователей культуры
№ государственной
регистрации ЭЛ № ФС 77 – 56414 от 11.12.2013
Журнал индексируется:
Выходит 4 раза в год только в электронном виде
Номер готовили:
Главный редактор
А.Я. Флиер
Шеф-редактор
Т.В. Глазкова
Руководитель IT-центра
А.В. Лукьянов
Наш баннер:

Наш e-mail:
cultschool@gmail.com
НАШИ ПАРТНЁРЫ:
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Культуру культуры» обязательна.
© Научная ассоциация исследователей культуры, 2014-2024







