НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Научное рецензируемое периодическое электронное издание
Выходит с 2014 г.

Гипотезы:
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Э.А. Орлова. Антропологические основания научного познания
Дискуссии:
В ПОИСКЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (рубрика А.Я. Флиера)
А.В. Костина, А.Я. Флиер. Тернарная функциональная модель культуры (продолжение)
Н.А. Хренов. Русская культура рубежа XIX–XX вв.: гностический «ренессанс» в контексте символизма (продолжение)
В.М. Розин. Некоторые особенности современного искусства
В.И. Ионесов. Память вещи в образах и сюжетах культурной интроспекции
Аналитика:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
А.Я. Флиер. Социально-организационные функции культуры
М.И. Козьякова. Античный космос и его эволюция: ритуал, зрелище, развлечение
Н.А. Хренов. Спустя столетие: трагический опыт советской культуры (продолжение)
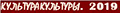

Н.А. Хренов
Культура и игра:
активизация игрового инстинкта в эпоху перехода от средневековья
к императорской России
(начало)
Аннотация. В статье рассматривается проблема возникновения игрового театре в позднесредневековой Московской Руси и развития его в период петровских реформ. Акцентируется проблема игры как «бесовства» в средневековой культуре, и преодоления этого стереотипа.
Ключевые слова. Игра, театр, позднесредневековая Московская Русь, петровские реформы.
1. Зрелищно-развлекательная культура как предмет изучения.
Игровая интерпретация зрелищно-развлекательных форм
как культурологическая проблема
Посвящая данную работу зрелищно-развлекательной культуре России последних столетий, мы затрагиваем сферу, которую следовало бы обозначить как сферу игры. Именно к этому понятию, помогающему расширить художественную сферу до эстетического прибегал в ХVIII веке И. Кант, выводя эстетическое за пределы художественного. Вопрос этот не из простых, поскольку соотношение между художественными и нехудожественными сферами в истории весьма подвижно. В свое время над этим размышлял Ю. Лотман [1]. Но уже и И. Кант, в отличие от Гегеля, объектом эстетики сделал не только искусство, а гораздо более широкий спектр явлений, далеко выходящих за границы художественной сферы, в нехудожественные сферы.
Вот и мы под зрелищно-развлекательной культурой будем подразумевать не только художественные формы, но и широкий круг игровых проявлений человека. Это будет как раз соответствовать подходу И. Канта. А главное, это будет соответствовать тому прихотливому и интенсивному взаимодействию между художественными и нехудожественными сферами, которое время от времени в истории происходит. В таких ситуациях не только художественная сфера, но и вообще весь социум оказывается пронизан игрой. Не случайно этому переливу игрового или театрального в социум посвятил свои книги Н. Евреинов [2]. Проблема заключается в том, что если в поздней или современной культуре произошла радикальная дифференциация разных сфер, в том числе, эстетических и игровых, то традиционные культуры (а нам придется затронуть и ценностные ориентации в этих культурах, поскольку исходным периодом нашей проблематики будет ХVII век) такой дифференциации лишены. Часто в них мы не обнаруживаем художественного, эстетического или игрового в чистом виде. Все эти явления лишены самостоятельности, представая лишь признаками других более общих сфер – религии, обрядовых действий, мифа, а часто и вообще трудовой деятельности.
Иначе говоря, в этих культурах игра не отделяется и не обособляется от деятельности, как, впрочем, одновременно и от пронизывающего эту деятельность мифа. Чтобы дифференциация имела место, а игра предстала самостоятельной, должно пройти время. Часто это происходит в том случае, когда развертывается процесс смены культур и когда сакральные и секулярные ценности предстанут в новых соотношениях. Так в поздней культуре игра становится самостоятельной по отношению к производственной деятельности, а за производственной деятельностью закрепляется определенное время. Но собственно, результатом такой трансформации будет и возникновение нерабочего времени, т.е. досуга, четко отделяемого от труда, как время, предназначенное для досуга, от времени труда. Вот в пространстве досуга в поздних обществах и найдет свою реализацию игра как самостоятельная по отношению к производственной деятельности сфера.
Однако, обнаруживая в традиционных культурах тесную связь трудовой деятельности и игры, мы в этих культурах еще не исчерпали специфики игры, поскольку игра и трудовая деятельность в них предстает в сакральных, а, следовательно, мифологических формах. И вот, чтобы игра, как и составляющие ее содержание зрелищно-развлекательные формы, обрела самостоятельность, должен произойти еще один разрыв, на этот раз разрыв игры и мифа. Игра становится самостоятельной и самоценной. В тех обществах, в которых развертывается секуляризация, игра предстает уже чистой игрой, развлечением, а в ней мифологический смысл уходит на «дно» культуры, и чтобы его обнаружить, необходима кропотливая реконструкция.
Образец такого извлечения из глубин коллективного бессознательного мифологического смысла продолжающих сохраняться некоторых игр, в частности, игры в «Ящера» и игры в «Оленя» представила Т. Бернштам. Она утверждает, что в играх совершеннолетней молодежи, которые к ХIХ веку превратились в чистое развлечение, сохраняются разностадиальные слои – мифологические представления, верования, календарные ритуалы, переходные обряды [3]. Исследователь обратила внимание на символику игры «Ящер», связанную с «каменной» и «огневой» природой, что соотносится, с одной стороны, с подземным миром, а с другой, с небесной, огненной стихией. Кроме того, постоянным атрибутом Ящера предстает орех. Символика ореха в обрядах любовно-брачного круга чрезвычайно существенна. Орех символизирует мужскую производящую силу, возбужденное (эротическое) мужское состояние. Так, в «Ящере» имеют место признаки, соотносимые и с сакральной силой высшего порядка, и с существами низшей мифологии.
Короче говоря, ритуал, выродившийся в чистую игру, в развлечение, предстает грандиозным интертекстом, возвращающим к той форме в эволюции духа, которую Гегель назвал символической, к самой ранней форме. Конечно, в ХIХ веке в игре «Ящер» магическая функция уже была утрачена. Согласно результатам проделанной реконструкции, эта функция связана с наделением испытуемого высшими брачно-эротическими способностями, плодородной потенцией. Огонь оказывается очистительной, оздоровительной, плодоносящей силой.
Игра – это не только, скажем, предмет этнографии, но и философский и, еще точнее, эстетический концепт. Не случайно основатели эстетики как одной из гуманитарных дисциплин, в частности, И. Кант наполняли этот концепт философским содержанием. В ХVIII веке, когда эстетика рождалась, казалось, что эстетический аспект игры исчерпывает содержание всех ее разновидностей и, в частности, искусства. Лишь в ХХ веке происходит открытие игры как культурологического феномена. Таким подходом к игре, а, следовательно, и к зрелищно-развлекательному пласту культуры мы обязаны Й. Хейзинге, идеи которого повлияли на некоторые суждения этого плана, высказанные автором этой работы в разных публикациях [4].
Но что значит культурологическое рассмотрение игры? Пока такая постановка вопроса кажется абстракцией. Ведь очевидно, что на каком-то этапе истории общества игры может быть много, а на каком-то ее может быть мало. Например, общества, в которых развертываются переходные процессы, испытывают потребность в ассимиляции ценностей «чужих» культур. Такая ассимиляция первоначально происходит в игровых формах. Одни общества вытесняют игру на периферию, другие, наоборот, склонны ее культивировать. Но она, видимо, неистребима, и если не проявляется в явных, то заявляет о себе в латентных формах.
Конечно, Й. Хейзинга расширил понимание игры по сравнению с эстетическим ее пониманием. Это следует считать продвижением в исследовании проблематики игры. Чтобы в ее понимании продвинуться дальше, мы привлечем еще одного культуролога. На этот раз П. Сорокина; хотя он и не писал специально об игре, но зато его концепция поможет поставить игру в зависимость не от культуры вообще, а от типа культуры. Суждение о том, что иногда игры может быть много, а иногда мало, мы ставим в зависимость от типа культуры и от того переходного состояния, в котором такой тип культуры может находиться.
Согласно концепции П. Сорокина, в истории развертывается перманентная смена типов культуры. То, что приемлемо для одной культуры, то неприемлемо для другой. Каждая культура – это специфическая система ценностей. Игра – это тоже ценность и, следовательно, она тоже или вписывается или не вписывается в эту систему, репрезентативную для определенного типа культуры, или ее сфера расширяется и проникает весь социум или, наоборот, загоняется в какую-то одну узкую сферу. Так, например, С. Аверинцев, касаясь смеха (а смех, естественно, связан с игрой), подчеркивает специфичность его проявления в русской культуре. Смех – это неуправляемая и, как выражается С. Аверинцев, потому опасная сфера. Ведь смех отменяет социальные конвенции, а, следовательно, подразумевает полную свободу. Но такой свободы не было. «Смеялись в России всегда много, но смеяться в ней всегда более или менее «нельзя» – не только в силу некоего высшего запрета со стороны того или иного начальства или общественного мнения, но прежде всего в силу того, что, положа руку на сердце, чувствует сам смеющийся. Любое разрешение, любое «можно», касающееся смеха, остается для русского сознания не вполне убедительным. Смеяться, собственно, – нельзя; но не смеяться – сил никаких нет» [5].
Понятно, что в этом случае возникает гипноз другой культуры – западной, в которой смеяться можно, но только в определенное время, во время карнавала. С помощью карнавала смех был укрощен и приручен. Он введен в берега конвенциональности. Но, как известно, в России карнавала нет, хотя карнавальная стихия пронизывает многие обрядовые формы. Попробуем воспользоваться фундаментальной концепцией П. Сорокина, чтобы прояснить вопрос о периодизации в истории зрелищно-развлекательной культуры. Так, П. Сорокин выделяет три типа культуры – культуру чувственного типа, культуру идеационального типа и культуру интегральную или культуру смешанного типа [6]. Каждая из них в истории то угасает, то вновь нарождается.
Так, для культуры идеационального типа характерно то, что здесь реальность понимается как не воспринимаемое чувственно, нематериальное, непреходящее бытие. Для нее характерна минимизация плотских потребностей и даже отказ от них и отрешенность от чувственного, телесного мира. Чувственная среда целиком растворяется в сверхчувственной реальности. Что касается ментальности культуры чувственного типа, то в ней реальностью считается лишь то, что дано органам чувств. Она не верит ни в какую сверхчувственную реальность и ее не ищет. Чувственная реальность мыслится как становление, процесс, изменение, течение, эволюция, прогресс, преобразование, динамика. Третий тип культуры – культура интегрального типа. Она представляет смесь идеациональной и чувственной культуры в разных сочетаниях и пропорциях. В истории одна культура угасает, другая нарождается и занимает ее место. Но новая культура вовсе не является совершенно новой. В истории она когда-то уже имела место. Мы в предлагаемой нашей работе будем ставит акцент на этой стороне дела. Так реализуется то, что Ф. Ницше когда-то сформулировал как «вечное возвращение». Так в больших длительностях истории реализуется альтернативный линейному принцип цикличности. Мы уделили этому методологическому принципу внимание в связи с концепцией П. Сорокина [7].
2. Зрелищно-развлекательные формы в контексте становления культуры чувственного типа
В связи со сменой культурных типов нельзя не задаться вопросом, что происходит с тем типом культуры, который вынужден уступить место альтернативному типу. Видимо, какие-то элементы угасающей культуры включаются в систему рождающейся культуры. Те, что уходят в подпочву культуры, не исчезают, в чем мы убедились, ссылаясь на реконструкцию игр «Ящер» и «Олень», которую предприняла Т. Бернштам. Такие элементы будут столетиями ждать момента, когда нарождающаяся культура пройдет длительный цикл своей истории и начнет угасать. В ситуации угасания пережившей цветущую сложность культуры активизируется спящая альтернативная культура. Такой принцип впервые продемонстрировали на материале литературы представители русской «формальной» школы. Но, по всей видимости, в соответствии с этой выявленной «формалистами» логикой функционирует и культура.
Конечно, какие-то элементы прежней культуры или уходят на дно культуры или культивируются в узкой среде субкультур или даже контркультур, которые являются маргинальными, не всегда достигая общезначимости, как это, например, случилось со стригольниками в средневековой Руси. Эту циклическую логику мы продемонстрируем на примере истории русской культуры петербургского периода. Вот и предмет нашего внимания – зрелищно-развлекательная культура – должен рассматриваться в соотнесенности не вообще с культурой, а с ее разными типами, последовательно сменяющими друг друга в больших длительностях исторического времени. При этом нельзя не учитывать, что внутри каждого типа культуры тоже можно выделять свои периоды. Если, скажем, речь идет о культуре идеационального типа, то в этом случае следует говорить о специфических функциях зрелищно-развлекательной культуры. Если же иметь в виду культуру чувственного типа, то здесь уже можно констатировать другие функции нашего предмета. Проблема смены типов культуры в истории является для ХХ века и вообще для нашего времени необычайно острой, поскольку, если следовать П. Сорокину, именно в этот период происходит угасание культуры чувственного типа и должны возникнуть субкультуры, в которых культивируются иные ценности, потенциально тяготеющие к альтернативной культуре.
Посвящая данную работу зрелищно-развлекательной культуре последних столетий (ХVII, ХVIII, ХIХ века) и имея намерение применить к этому предмету культурологический подход, мы прежде всего исходим из констатации очередного в российской истории перехода, являющегося по своей значимости таким же, какой Россия переживает в ХХ веке. Сопровождающая переходный этап в ХХ веке смута оказывалась такой же очевидной и для того перехода, эпицентр которого связан с ХVII веком. Не случайно в гуманитарной науке высказывалась мысль о том, что ХХ век смотрит в ХVII век как в зеркало. «… ХVII век отсылает к ХХ веку, – пишет В. Топоров, – и даже более – ХVII век и есть то ближайшее и обладающее наибольшей разрешающей силой «историческое» зеркало, в котором можно искать и находить отражение нашей, ХХ века духовной ситуации и многих ее конкретных воплощений. Сказанное, конечно, не исключает индивидуальности, оригинальности, иногда неповторимости характеристик этих двух веков порознь, но это индивидуальное не ставит под сомнение то общее, что связывает ХVII и ХХ века: оба эти века – под знаком беды и в предощущении возможного конца. Этим они и близки друг другу, и поэтому человеку конца ХХ в., рефлектирующему над ходом истории в России, небесполезно еще раз всмотреться в бурный и напряженный ХVII век, столь богатый проявлениями злой воли, насилием, бедствиями, страданием» [8].
Чтобы предпринятая В. Топоровым параллель была более убедительной, процитируем из книги П. Сорокина буквально одно предложение, касающееся специфики переходной ситуации, характерной уже для ХХ века. Имея в виду переходность, развертывающуюся уже в наше время, П. Сорокин пишет: «Мы живем, думаем и действуем в сгущающихся сумерках ночи переходного периода с ее кошмарами, гигантскими разрушениями и душераздирающими ужасами» [9].
В. Топоров позволил себе очень яркую метафору, которая, кстати, почти буквально совпадает с диагнозом того, что происходит в культуре ХХ века, данным Й. Хейзингой. Эта метафора позволяет угадать главное в этих двух периодах в российской истории. Но однако же это меткое наблюдение требует культурологического истолкования, которое у В. Топорова отсутствует. Столь метко сделанное наблюдение о совпадении ХVII века и века ХХ, однако, не исключает между ними расхождения. Конечно, и там переход, и тут переход, сопровождающийся смутой. Но если в ХХ веке можно наблюдать угасание типа культуры, называемого П. Сорокиным культурой чувственного типа, то в ХVII веке этот тип культуры только нарождался. Умирала же альтернативная культура или, как ее называет П. Сорокин, культура идеационального типа, отличающаяся от культуры чувственного типа тем, что ее доминантой будет уже не чувственная, а сверхчувственная реальность, а там, где сверхчувственная реальность, там и мистика.
Не случайно в ситуации перехода к культуре чувственного типа активизировались апокалиптические настроения. Это обстоятельство свидетельствовало о том, что реальностью этого времени была культура идеационального типа, а это – средневековая культура, и она не сдавала своих позиций и даже активизировалась. Ведь апокалиптические настроения характеризуют средневековую культуру на всем ее протяжении. Эта сверхчувственная реальность многое определяла во всей средневековой культуре. Конечно, с такой культурологической точки зрения зрелищно-развлекательная культура не рассматривалась, тем более, она не рассматривалась с точки зрения фундаментальной теории смены культур П. Сорокина.
Вместе с тем, нельзя утверждать, что зрелищно-развлекательная культура не изучалась вообще. Эта культура постоянно изучалась. В осмысление ее опыта многое внесли уже исследователи ХIХ века. Прежде всего, представители таких дисциплин, как этнография, филология, история и фольклористика. Активизации этих дисциплин способствовало осознание того, что традиционные ценности, многое определяющие в предшествующей культуре, исчезают. Это переживание, например, пронизывает сочинения К. Леонтьева. Можно сказать, что в этом изучении принимало участие и искусствознание, но в меньшей мере, и вот почему. Ведь до ХХ века искусствознание ориентировалось на эстетику, в частности, на эстетику в ее гегелевском варианте. Эта эстетика жестко проводила границу между видами искусства и различными сферами, в частности, и разными формами зрелищно-развлекательной культуры. Классическая эстетика исходила из системы видов искусства, какой она представлялась философам Просвещения. Эта эстетика ограничивалась рассмотрением исключительно видов искусства, какими они предстали в ХVIII веке. За пределами этой системы оставалось много зрелищно-развлекательных «практик» (назовем их пока так, как называют сегодня формы художественного высказывания, не включаемых в сложившуюся систему видов искусства).
В частности, за пределами гегелевской эстетики оставались зрелищно-развлекательные формы, вызванные к жизни в традиционных культурах и сохранившиеся в последних столетиях, когда развертывалось становление индустриальных обществ и городской культуры как признаков становления культуры чувственного типа. Не случайно уже Н. Чернышевский в своей концепции эстетики выступил против гегелевской системы эстетики, пытаясь вернуть представления древних об эстетическом, не успевшем разорвать с самой жизнью и проникающем во все проявления бытия. Например, философы Просвещения оказались нечувствительными к фольклору, полагая, что его формы не имеют отношения к искусству. Между тем, многие проявления зрелищно-развлекательной культуры были с фольклором как раз связаны. Правда, представление о фольклоре у нас длительное время были исключительно филологическим, т.е. предметом фольклористики становились лишь эстетические явления традиционных культур, связанные с устной словесностью.
Что же касается зрелищно-развлекательных форм, то они вплоть до сегодняшнего дня оставались бесхозными. Философы Просвещения культивировали исключительно логические, понятийные формы мышления, которые как раз и характеризуют зрелый период культуры чувственного типа. Все, что относилось к чувственным формам сознания (фольклор, миф и даже искусство, в особенности, народное и т.д.), имело у них низкий статус. Что уж говорить о фольклоре и мифе, если искусство и вообще вся эстетическая сфера, которая, конечно же, шире искусства, не ценилась. Гегель вообще спрогнозировал смерть искусства. А что касается мифа, то это для него что-то вроде суеверия, ушедшего в прошлое. Это только романтики начали разбираться в том, что такое миф и ценить его. Но такое отношение к мифу – лишь частный аспект их исключительно позитивного отношения к средневековой культуре. Эта традиция, возникшая в эпоху романтизма на Западе, послужила толчком для возникновения в России славянофилов.
Если из поля зрения просветителей искусство все же не исчезало, то только потому, что в нем они ценили проявления индивидуальной или авторской деятельности. Фольклор же чаще всего представал как вид коллективного и анонимного творчества. Акцент на индивидуальном – это уже признак рождающейся альтернативной культуры, и именно его высокий статус в этой альтернативной культуре обесценил зрелищно-развлекательные формы, которые произошли от обрядовых практик, а эти практики, естественно, всегда имели коллективный характер. На этом основании фольклор противопоставляли поздним формам искусства, связанным с индивидуальным началом. При этом индивидуальное начало оценивалось априорно положительно, а коллективное, соответственно, наоборот, т.е. с точки зрения альтернативной культуры. Такое отношение к фольклору оказалось следствием отношения модерна к Средневековью, а именно, неприятия модерном этой культуры. Критерию превозносимого в эту эпоху разума она явно не соответствовала. «Средние века лежат позади нас, – писал Гегель, – как прошлое, и должны для нас оставаться непригодными. Однако нам ничего не поможет, если будем называть средние века варварской эпохой; они действительно варварские, но это своеобразный вид варварства, не наивный, примитивный, а здесь абсолютная идея и высшая культура превратились в варварство и притом с помощью мышления» [10].
Такие настроения захватывали не только философский, но и литературный мир, представители которого при оценке искусства использовали те критерии, что возникли в эпоху так называемого «античного Просвещения». Но были мыслители, которые такому положению дел сопротивлялись. Так, вопреки господствующей точке зрения, а именно, предпочтению античного искусства как образца Вакенродер доказывал значимость средневекового искусства. Р. Гайм в связи с этим пишет: Вакенродер «говорит, что не следует осуждать средние века за то, что в то время строились храмы, не имевшие сходства с греческими: “Настоящее искусство может процветать не только под итальянским небом, под величественными куполами и коринфскими колоннами, но и под готическими сводами, под пестрыми украшениями зданий и под готическими башнями”» [11]. Подобные эстетические ориентации приводили к тому, что сочувствие Вакенродера к средним векам, как выразился Р. Гайм, «переходит в полемику против его современников» [12].
Но раз для модерна все Средневековье предстает варварской эпохой, то, соответственно, фольклор с его коллективными формами творчества предстает также варварским искусством. Это обстоятельство, т.е. отождествление фольклора исключительно с коллективным началом, видимо, и оказалось причиной того, почему до романтиков все, что связано с коллективными формами творчества, выводилось за пределы возникшей в эпоху раннего модерна эстетики и не считалось художественным. Романтики переосмыслили отношение к фольклору, ибо они переоценили отношение к истории вообще, реабилитируя и идеализируя средние века. Так, Р. Гайм пишет о В. Шлегеле: «Он идеализирует средние века в такой же мере, в какой их старались унижать односторонние поклонники Нового времени. Эти идеализированные средние века они принимают за мерило для оценки настоящего положения литературы, подобно тому, как просветители принимали настоящее положение литературы за мерило для суждений о средневековой литературе» [13].
История для романтиков – это уже не история становления Духа, по Гегелю, а история народа и народов. Правда, иногда под народом подразумевается нация, и тогда история предстает историей нации. «Но современная наука, – констатирует А. Веселовский изменение воззрений на историю в эпоху романтизма, – позволила себе заглянуть в те массы, которые до тех пор стояли позади их, лишенные голоса: она заметила в них жизнь, движение, неприметное простому глазу, как все, совершающееся в слишком обширных размерах пространства и времени; тайных пружин исторического процесса следовало искать здесь, и вместе с понижением материального уровня исторических изысканий центр тяжести был перенесен в народную жизнь» [14]. Это суждение, пожалуй, можно считать ранним предвосхищением исторической школы «Анналов». Не случайно предмет будущих историков ментальности – «безмолвствующее большинство» – перекликается с выражением А. Веселовского – «лишенные голоса». В связи с открытием истории как истории «безмолвствующего большинства», о чем свидетельствовал и фольклор, возникает интерес к явлениям культурной жизни, оказавшимся в эпоху модерна за пределами возникающей в ХVIII веке эстетики, представления которой разделяли и искусствоведы. Но с возникновением романтизма эстетика, столь чувствительная к личному творчеству и столь высоко его оценивающая, что выражало дух Нового времени, была обязана превратить в предмет своего внимания и фольклорные, т.е. коллективные формы творчества. Внимание к ним, как выражается А. Веселовский, неизбежно «порасшатало немецкую эстетику» («Немецкая эстетика вскормлена была на классиках; она верила и отчасти продолжает веровать в личность Гомера. Гомеровский эпос есть для нее идеал эпопеи; отсюда гипотеза личного творчества» [15]).
Таким образом, в эстетику начали включать значительные массивы коллективного, безымянного творчества, в том числе, «Калевалу» и французские «chansons de geste». Этот переворот в гуманитарной науке в связи с открытием романтиками искусства Р. Гайм описывает так: «Но самым блестящим и поистине величественным явлением было здоровое и полное энергии развитие немецкой науки, которая вступила на новый путь и приобрела новые органы благодаря перевороту, произведенному в литературе романтиками. Непосредственно из недр поэзии возникли исследования братьев Гримм по истории филологии» [16] Воздействие братьев Гримм на отечественную филологию и фольклористику общеизвестно. По выражению А. Веселовского, эстетике пришлось «перестраиваться». Такая перестройка совершалась, в том числе, и в среде представителей философии. В данном случае невозможно не упомянуть имя И. Гердера, отвергающего односторонние суждения просветителей по поводу восточного деспотизма средних веков. По сути, у И. Гердера имеет место апология средних веков и, наоборот, критика Просвещения, нападки на рационализм модерна. Р. Гайм пишет: «Он с необыкновенной самоуверенностью бросил перчатку представителям идей своего времени. С горячностью, по которой распознается страстный темперамент, чем настоящее мужество, он направлял свои нападки на самых ученых и самых знаменитых между своими современниками, на самых влиятельных и всеми уважаемых» [17].
Апология средних веков у И. Гердера направлена, в том числе, и против Вольтера, отзывавшегося о средних веках с крайним несочувствием как о самых мрачных и непросвещенных в истории веках. И. Гердер писал: «Я вовсе не намерен вступаться за беспрестанные переселения народов, за беспрестанные опустошения, за войны и ссоры с вассалами, за распространение монашества, за благочестивые странствования, за крестовые походы, но я желаю доказать, что во всех этих явлениях есть внутренний смысл. Это было брожение человеческих способностей – это было исцеление целых поколений посредством усиления деятельности! Я даже позволю себе сказать, что судьба снова завела остановившиеся часы (конечно, с сильным шумом и так, что гири не могли висеть спокойно); тогда было слышно, как скрипели колеса» [18].
В конечном счете, разгоревшаяся с ХIХ веке под воздействием открытия фольклора и введения его в эстетику дискуссия о коллективном и личностном оказывается частным выражением той культурологической оппозиции, что предстает в отношениях между культурой Средневековья, т.е. в соответствии с П. Сорокиным, культурой идеационального типа с присущими ей и определяющими ее формами устной коммуникации и культурой Нового времени, для которой высшей оценки заслуживали лишь явления авторского творчества. А эта культура является культурой чувственного типа. Логика истории и критерии научной эстетики оказывались связанными прежде всего с проявлениями личного творчества, о чем свидетельствует развитие искусства в поздней истории.
3. Зрелищно-развлекательные формы как маргинальный слой культуры
с точки зрения науки ХIХ века.
ХХ век: от этнографии к культурологии в изучении этого слоя культуры
Но дело не только в фольклоре. Скажем, куда эстетик, а за ним и искусствовед отнесет такую репрезентативную для зрелищно-развлекательной культуры форму, как кулачные бои, которые не обошел своим вниманием С. Герберштейн [19]. Ясно, что в то представление, что возникло в эстетике Просвещения, рассмотрение этой формы, как, впрочем, и многих других, исключает. Между тем, кулачные бои – заметный феномен культуры и, в особенности, отечественной культуры, во всяком случае, до ХVII века. Историк кулачных боев В. Лебедев вообще убежден в том, что это исключительно русская забава. Потому что такие бои в России выделяются своим коллективным началом. «Кулачные бои существуют во многих странах, – пишет он, – но всюду они носят характер или состязательный-единоличный, как, например, бокс в Англии, или поединка, что было и у нас в допетровской Руси; но в том виде, какой они имеют в России, – в виде состязания огромных сборищ толпы, одна с другою, этого нигде и никогда не было. Удаль, избыток сил просились наружу и находили выход в таком своеобразном игрище» [20].
Данное суждение интересно не только наблюдением над тем, что в русской культуре феномен кулачных боев имеет специфический характер, но и тем, что историк уже вскрывает их психологическую функцию, а именно, выпуск избыточных витальных сил, что вообще характерно для игры. Любопытно также наблюдение над тем, что это не индивидуализированная форма поединка, как это принято в европейских странах, а форма коллективная, в которой сражаются не только простолюдины и фабричные, но и представители всех сословий, в том числе, дворяне и купцы. Вообще, ценности культуры идеационального типа ориентированы на смягчение социального расслоения и на стремление культивировать коллективные формы, т.е. то, что было причиной отторжения таких эстетических форм от утверждающейся системы видов искусства. Эту особенность подхватывает на первых этапах своего становления и культура чувственного типа. «В Москве, а отчасти и в Петербурге, кулачные бои, – пишет В. Лебедев, – особенно процветали в ХVIII и до половины ХIХ века. Это был период полного их развития. В это время между иными страстными любителями кулачного боя (как, напр., гр. Растопчин) выделяется особенно знаменитый чесменский герой, граф А.Г. Орлов-Чесменский, хотя и брат его, князь Григорий Григорьевич также был знаток и любитель этого спорта, но более случайно, более, так сказать, мимоходом, между прочим» [21].
Мимо этого привлекающего в столицах толпы людей зрелища пройти никак невозможно, поскольку, ведь как только кулачный бой утратил свой сакральный смысл, без которого не обходились такие поединки в древности, он трансформировался в специфический вид зрелища, приобрел развлекательный и эстетический характер. Такие поединки превратились в элемент циркового представления. В культуре чувственного типа произошла трансформация: из обрядового действия кулачный бой превратился в вид искусства, а, точнее, в аттракцион цирковой программы. Такова судьба многих традиционных зрелищно-развлекательных форм в альтернативной культуре. Вот как эту трансформацию кулачного боя в цирк и спорт описывает историк. «Но, странное дело, – пишет он, – этот пережиток старины в настоящее время – принял другую форму и привлекает толпы зрителей на атлетическую борьбу, которую устраивают уже антрепренеры из личных целей наживы. Теперь на аренах цирков и на сценах театров выступают профессиональные борцы, приглашаемые со всех стран света; здесь можно встретить англичанина, немца и француза, турка, японца и китайца, даже африканца» [22].
Вообще, история цирка как одной из форм зрелищно-развлекательной культуры весьма показательна для трансформации обрядово-ритуальных форм в вид искусства. Так значимые факты этого рода собраны Е. Кузнецовым, доказывающим, что цирк возник из ярмарочных представлений ХVI-ХVIII веков, осуществлявших развлекательные и увеселительные функции, но, как и упомянутые нами выше игры «Ящер» и «Олень», сохраняли связь с древними религиозными и культовыми пластами. Описывая древнейшие элементы циркового представления, Е. Кузнецов видит в качестве такого элемента и борцов. «В сутолоке ярмарочных увеселений ХVI-ХVIII столетий, среди канатоходцев, прыгунов, жонглеров, паклеглотателей и марионеток, среди атлетов, борцов, музеев восковых фигур и кабинетов китайских теней, между обезьянами, танцовщиками на канате и попугаями, игравшими в карты, затерялись ученые и дрессированные лошади с их поводырями – дрессировщиками и конными акробатами» [23].
Так, возникнув в древних культурах в своей обрядовой форме, кулачные бои трансформировались в зрелищно-развлекательную форму. В этом кулачные бои уподобляются и остальным формам зрелищно-развлекательной культуры. Но аналогичная судьба постигла и праздники, элементом которых были и кулачные бои. Без них средневековую культуру представить вообще трудно. Как свидетельствует Т. Бернштам, общее количество праздничных дней в году с незначительными вариациями по областям достигало 150 [24]. Праздники подразделяются на установленные церковью (святки, масленица и т.д.). Степень длительности праздников была различной. Особенно длительным праздником была масленица (от одной-двух недель до одного дня). Минимальный срок церковного праздника – три дня. Считалось, что праздничное время – это своеобразное «безвременье» или вневременное состояние, что свидетельствует о мифологическом подтексте праздничного времени. Безвременье праздника содержало идею вечности, т.е. смерти.
Праздник считался наиболее счастливым временем для смерти. Значимость праздника получила выражение во фразе «Мы целый год трудимся для праздника». Праздник предполагал обязательное участие в нем всех взрослых жителей cела. К уклоняющимся от праздников односельчане относились с подозрением. Праздник ассоциировался со свободой. Но в его основе лежало опять же, как и в реконструированных Т. Барнштам играх, древнейшее мифологическое представление о том, что во время праздника происходит общение живых с мертвыми. Праздничное время – это исключительное, а точнее, сакральное время, т.е. некий «золотой век». Это время посещения «иного» мира или «страны предков». «Таким образом, – пишет Т. Бернштам, – в оппозиции «будни – праздники» содержится смысл единства и противопоставления «несвобода – свобода», «жизнь – нежизнь», и в основе народного представления о поведении людей в будни и в праздник лежала сакральная необходимость чередования жизненного и нежизненного состояния для нормального круговорота жизни и смерти: осознание связи живых и мертвых, отдача себя высшим силам, как бы в благодарность за жизнь и для разрешения пользоваться ею дальше» [25].
Наконец, назовем еще одну деятельность, столь репрезентативную для зрелищно-развлекательных форм, характерных для культуры идеационального типа. Это скоморошество. Культура чувственного типа – это, разумеется, языческая культура, а скоморохи – это не столько даже институт (хотя и институт тоже), но целая субкультура, сохраняющая языческие ценности. Уже по этой причине искусство скоморохов, как может показаться, не могло быть полностью интегрировано в культуру идеационального типа. А между тем, несмотря на эту невозможность, скоморохи находили в ней свое место. Это обстоятельство необходимо как-то объяснить, ведь оно приоткрывает существенную закономерность, связанную с морфологией типа культуры. Как так получается, что какие-то элементы угасающей культуры продолжают функционировать в нарождающейся культуре. Скоморохи – вроде бы носители ценностей культуры чувственного типа остаются и во время функционирования культуры идеационального типа, причем, и в эпоху ее зрелости, и в эпоху ее заката, что и было чувствительно в ХVII веке.
Казалось бы, скоморохи – чуждый элемент в системе культуры идеационального типа. Они пришли в позднюю историю из древних культур, может быть, даже из доосевого времени, из всех культур чувственного типа, которые в соответствии с логикой циклизма уже имели место в истории и, наконец, из языческой античности. М. Бахтин даже связывает с ними рождение романных форм в литературе. Так, пытаясь понять происхождение скоморохов, А. Веселовский указывает на греко-римских мимов, выступающих «насадителями внешних элементов древнего театра в новой Европе» [26]. А. Веселовский утверждает, что существовали два типа мимов. Одни со временем становились профессионалами и уже давали представления на сцене. Именно они вносили в сценическое представление момент комического. Они передразнивали монологи и движения серьезных персонажей, за что их награждали тумаками, провоцируя смех и удовольствие публики. В этой традиции имеется логика, ведь, как утверждает О. Фрейденберг, комедия рождалась как пародия на трагедию.
Но были потешники и иного рода. «Рядом с мимами театра, орхестры и просцениума, – пишет А. Веселовский, – были и такие, которые являлись потешниками, фиглярами на пирах и попойках, на улицах, площадях и в шинках. Это были те же мимы, потешники: шарлатаны, магоды и лизиоды, представлявшие разного рода скандальные сцены, являясь в женском платье, с литаврами и кимвалами в руке и изображая собою продажных женщин, сводников, пьяниц и т.п. Вращение в народе сблизило их с его обычаями и требованиями; упадок правильной сцены поднял их значение, упадок вкуса расширил их специальность, принизив их общественную роль. Сведения о мимах из времен упадка империи ставят их на один уровень и в ближайшем соседстве с целым рядом других, более низменных потешников» [27].
Тут следовало бы сказать еще о том, что мимы оказались основателями не только института скоморошества, но и института юродства, который для средневековой Руси являлся весьма значимым и который был заимствован Русью из Византии. Юродство – это еще один вид зрелищно-развлекательной культуры. Касаясь юродства, мы вовсе не отклоняемся от нашей темы, ведь оно уже давно изучается как игра и как зрелище. Еще исследователи смеховой культуры Древней Руси задавались вопросом: есть ли основание относить юродство к разряду зрелищ? [28] Ответ у них был положительный. Именно они проводили параллели между юродивыми и скоморохами. «Можно сказать, – пишут они, – что без скоморохов и шутов не было бы юродивых. Связь юродства со смеховым миром не ограничивается «изнаночным» принципом (юродство… создает свой «мир навыворот»), а захватывает и зрелищную сторону дела» [29].
Юродство тем более заслуживает внимания, что оно является далеким предком того, что сегодня называют перформансом и хеппенингом [30]. Перформанс и хеппенинг связаны с активизацией массы, с ее обязательным участием в зрелищной акции. То же имеет место и в тех скандалах, которые провоцируют юродивые, втягивающие в зрелище толпу. Вот и исследователи смеха в Древней Руси подчеркивают, что зрителю в таком представлении предназначена активная роль. Из наблюдателя толпа превращается в участника действия.
Мы уже отметили, что юродство на Русь пришло из Византии. Но, конечно, юродство – не чисто византийский феномен. Сюда оно пришло с Востока, в частности, из Египта и Сирии. Причем, на функционирование института юродства каждая культура накладывает особую печать. Известно, что для Руси характерен культ юродивых. Окончательно этот институт здесь сложился к рубежу ХV-ХVI веков. Расцвет юродства приходится на ХV – первую половину ХVII столетия [31], т.е. накануне следующих во второй половине этого века запретов на скоморохов.
Но вернемся к византийским мимам. Их представления – это грубые площадные представления с традиционными сюжетами и масками. Обращая внимание на некоторое сходство юродивых с византийскими мимами, С. Иванов пишет: «Греческий глагол «играть» равно приложим к действиям мима и юродивого, который также играл свою роль в нелепом, с его точки зрения, театре земной жизни. Видимо, и внешнее сходство между ними могло быть весьма велико. Но при этом мы не должны забывать, что, в отличие от западного придворного шута, обладавшего некоторым иммунитетом, византийский мим был всеми презираем; фактически он принадлежал как бы к «неприкасаемым», и юродивый надевал личину мима не для того, чтобы свободнее говорить правду (да в Византии эта логика и не спасла бы правдолюбца), а чтобы полнее испить чашу унижения» [32].
О значимости юродства в Византии, откуда Русь получила эту устойчивую здесь традицию, свидетельствует, например, поведение императора Михаила III, в котором можно усмотреть и влияние мима и вообще карнавальности. Император окружал себя шутовской кампанией, разыгрывал с этой кампанией шутовской обряд, облачал участников в священнические одежды, называл своего приспешника патриархом, а себя митрополитом [33]. Такие забавы были, конечно, по отношению к церкви кощунственными. Отвечая на себе заданный вопрос, было ли шутовское поведение византийского императора Михаила III исключением, исследователь пишет: «Михаил – первый в ряду юродствующих правителей. Видимо, Византия знала и других; недаром ведь Феодор Метохит осуждает тирана, «играющего дурака с дураками и дебошира с дебоширами» [34].
Эта традиция шутовского поведения главного лица государства из Византии перекочевала на Русь. Мимо этой темы не проходит и предпринявший глубокое исследование о византийском юродстве С. Иванов. Царь Иван Грозный оказывается близким традиции византийского юродства. «Если считать юродством максимальное самоуничижение, таящее под собой величайшую гордыню, то нельзя себе представить более характерного носителя этой гремучей смеси, чем Иван Васильевич» [35]. Этого вопроса касались и авторитетные исследователи смеха в Древней Руси. Более того, они констатируют, что для Грозного были характерны глумления над христианским культом. Но ведь этой традиции будет следовать даже Петр I. Камер-юнкер Ф.В. Берхгольц в своем дневнике описывает продолжавшийся неделю маскарад в Петербурге по случаю заключения мира со Швецией, выделяя из этого представления один эпизод, позволяющий аргументировать преемственность карнавальной традиции. Ф.В. Берхгольц утверждает, что для исполнения карнавального действа как части маскарада была учреждена целая коллегия, которая по приказу Петра I систематически призывалась к деятельности.
Эта карнавальная часть маскарада не может не вызвать удивления Ф.В. Берхгольца, который, как может, пытается ее осмыслить. «Самыми странными были князь – папа, из рода Бутурлиных, и коллегия кардиналов, в их полном наряде. Все они величайшие и развратнейшие пьяницы; но между ними есть некоторые из хороших фамилий. Коллегия эта и глава ее, так называемый князь-папа, имеют особый устав и должны всякий день напиваться допьяна водкой и вином. Как скоро один из ее членов умирает, на место его тотчас, со многими церемониями избирается другой отчаянный пьяница» [6)] Ф.В. Берхгольц недоумевает и пытается понять смысл данного карнавального действа. Таким аргументом для него было искоренение с помощью такого действа порока, а именно пьянства, что, конечно, ошибочно. Более убедительным все же оказывается аргумент, который камер-юнкер услышал от других. «Но другие думают, – пишет он, – что царь насмехается над папою и его кардиналами, тем более, что он, как рассказывают, не щадит и своего духовенства, приказывая ежегодно, перед постом исполнять одну смешную церемонию» [37]. Все свидетельствует о том, что юродивый на Руси – весьма значимая фигура, а юродство – разновидность зрелищно-развлекательной культуры.
4. Функционирование скоморошества как элемента культуры чувственного типа в культуре идеационального типа как культурологический парадокс
Собственно, описывая мимов поздней античности, А. Веселовский уже дает характеристику обрядовых фигур в древнерусской культуре и вообще того, что обычно связано с институтом скоморошества. В переходных ситуациях в истории культуры этот институт оказывался перед угрозой исчезновения. Однако каждый раз, умирая и возрождаясь к жизни, культура идеационального типа институт скоморошества сохраняла. Сохраняла его и средневековая Русь. Как разгадать эту способность скоморохов выживать и в тех культурах, которым они кажутся совершенно чуждыми? Чуждыми потому, что они, по сути, сохраняют традицию языческой культуры. «Игры и пляски обличались как греховные развлечения, отвлекавшие верующих от благомыслия и святости воскресного дня, – пишет Н. Гальковский. – Но кроме того, наше духовенство ясно сознавало, что многие песни и обряды – пляски были остатком древнего язычества. А потому пастыри были правы, называя игры и пляски поганским обычаем, т.е. языческим. Несомненно, такой термин возник не без влияния греческой литературы. Слово Иоанна Златоуста… содержит в себе взгляд на игры и вообще на общественные развлечения как на остаток язычества» [38].
Казалось бы, что такого значимого в этом элементарном и, в общем, известном суждении можно усмотреть. Усмотреть же можно то, чего обычно не замечают. Ведь сколь бы не старались жрецы православной церкви устранить скоморохов из жизни, устранить их невозможно, ибо в функционировании культуры идеационального типа возник и продолжал быть существенным диалог между двумя типами культур – культуры идеационального и культуры чувственного типа. На протяжении многих столетий он оказался неискоренимым и, кстати, необычайно позитивным. Как это не покажется странным, но он способствовал сохранению и поддержанию культуры идеационального типа, хотя с точки зрения сегодняшнего дня кажется, что это не так.
Ближе всех к разгадке неприятия – приятия скоморохов оказался А. Панченко. Он констатирует, что на всем протяжении Средневековья веселье для официальной идеологии было проблемой. Ведь отцы церкви отождествляли смех и веселье с дьяволом, а скоморохи как наследники античных мимов как раз и представляли эти сферы (хотя не только эти сферы). Негативное отношение к ним стало в Древней Руси устойчивой традицией. И смех, и веселье соотносились с дьяволом. Смех, согласно средневековым аскетам, – это признак беса. Мир скоморохов – это мир веселящийся, лицедействующий, в общем, играющий, а значит, мир дьявольский. Однако, констатируя это, А. Панченко задается вопросом: если это так, если скоморошество соотносимо с адом, то почему же церковь, тем не менее, не запрещает скоморохов как еретиков раз и навсегда [39].
Здесь возникает весьма важный вопрос, касающийся преемственности в истории культуры. То, что разные типы культуры сменяют и должны сменять друг друга, понятно. Раз происходит такая трансформация, то, следовательно, можно говорить о полном разрыве между двумя названными культурами. Но можно ли говорить о том, что, несмотря на перманентное угасание культуры одного типа и рождение культуры другого типа, все же на каком-то уровне сохраняется и то общее между разными типами культур, которое способствует выживанию культуры того или иного народа. Здесь, видимо, следует говорить о том, что это общее, что сохраняется, несмотря на разность культур, можно проследить на уровне мифа. Это присутствие постоянно сохраняющегося ядра культуры можно рассмотреть на уровне архетипа.
В качестве иллюстрации здесь может быть рассмотрено скоморошество как форма зрелищно-развлекательной культуры. По сути, скоморошество можно обозначить как социальный институт. Это один из значимых институтов средневековой культуры. Может быть, наиболее значимая функция этого института связана с поддержанием целостности культуры и выживанием творца и носителя ценностей этой культуры – народа. Раз это институт, то он осуществляет необходимые функции по отношению к обществу, культуре, государству и личности. Понятно, что исключительно искусствоведческий подход к скоморошеству был бы слишком узким и специальным. Обычно искусствоведы рассматривают скоморохов в связи с такой категорией эстетики, как комическое. Но это не совсем так. Вот и А. Панченко задается вопросом: почему же в русской памяти скоморохи остались исключительно веселыми, т.е. игрецами, кощунниками, глумцами, смехотворцами? Ведь их деятельность вовсе не сводилась к смеху и веселью. Например, В. Миллер представляет их, в том числе, и как певцов и слагателей былин [40].
Искусствоведческое рассмотрение скоморохов необходимо, но оно еще не позволяет понять скоморошество с функциональной и институциональной точки зрения, с точки зрения культуры. Конечно, искусствоведы сплошь и рядом затрагивают какие-то аспекты скоморошества, выходящие за пределы искусствоведческого подхода, но не касаются методологии, а потому такие наблюдения оказываются случайными, эмпирическими, субъективными, приблизительными. Между тем, объяснение скоморошества лежит за пределами искусствоведческого подхода и в первую очередь касается представления о личности, что характерно и для Средневековья, а также, что для нас представляет первостепенный интерес, для выявления специфики культуры. Подлинное объяснение скоморошества, связанного со стихией веселья, смеха и игры, лежит в морфологии культуры, точнее, того типа культуры, который характерен для Средневековья.
Что касается установок искусствоведа, то его частое обращение к этой теме понятно и закономерно. Скоморошество – стихия, в которой зародились многие виды и жанры искусства – театр, кукольный театр, музыка, танец, цирк, драма, комедия, былина и т.д. Историческое исследование видов искусства предполагает генезис видов и жанров. Но когда такие вопросы в искусствознании рассматриваются, невольно приходится касаться деятельности скоморохов как деятельности синтетической, а, точнее, синкретической. Видимо, скоморох представлял универсального лицедея, способного и петь, и плясать, и играть на музыкальных инструментах. Это в прямом смысле этого слова «человек играющий».
Следующим после легализации развлечения в новой культуре явлением предстает становление профессионализации искусства. Новые формы выражения игрового инстинкта приводят к обособлению эстетического как самоценного. Это выражение становится уделом профессионального творчества. Возникает целое сословие профессионалов, занимающихся исключительно эстетической деятельностью. Так мы уже оказываемся в ХVIII веке как веке эстетическом. Тем не менее, даже еще в момент обособления театра от обряда, театра от представления скоморохов он с последним тесно связан. Так, констатируя распространение в первой половине ХVIII века страсти к театру в среде разночинцев, точнее, в среде разночинной интеллигенции посадской Москвы, И. Забелин пишет, что как древние обряды, связанные с религиозными праздниками, так и театральные представления происходили одновременно, а, следовательно, на театре лежит печать скоморошества. «Урочное время для таких представлений бывало всегда на празднике Рождества, когда происходили, по всенародному обычаю, всякие действа ряженых. Этот сезон народного ряженья давал законное право присоединять к его увеселениям и новые театральные зрелища, а вместе с тем он связывал родственными узами новые театральные представления с древними скоморошескими действами, которые всегда в это празднество работали также с особенным успехом. Во мнении народа новый театр являлся как бы потомком театра скоморохов, тем более, что по содержанию, по характеру иных своих пьес, вроде, напр. Гаера, он сохранял родственные черты с представлениями скоморохов» [41].
Так, описывая бродячих средневековых мимов, традиции которых следовали и скоморохи на Руси, А. Веселовский извлекает из средневекового источника информацию о жонглере, у которого имелся самый разнообразный репертуар, напоминавший репертуар византийских мимов. «Жонглер должен уметь играть на разных инструментах, вертеть на двух ножах мячи, перебрасывая их с одного острия на другое; показывать марионетки, прыгать через четыре кольца; завести себе рыжую приставную бороду и соответствующий костюм, чтобы рядиться и пугать дураков; приучить собаку стоять на задних лапах; знать искусство вожака обезьян; возбуждать смех зрителей потешным изображением человеческих слабостей; бегать и скакать по веревке, протянутой от одной башни к другой, смотря, чтобы она не подалась и т. п.» [42].
Удивительно показательный пример. Ведь это не только название способностей, которыми владел жонглер, но программа целого циркового представления, о чем мы уже писали. Что касается происхождения скоморохов, то здесь, конечно, следует говорить о византийском влиянии. Это пересадка на русскую почву чужой культуры. Об этом свидетельствует, например, такой факт. На стенах Софийского собора в Киеве, построенного при князе Ярославе, есть фрески, изображающие забавы, по всей видимости, при дворе князя. На этой фреске изображены плясуны и музыканты, играющие на дудке, трубах, гуслях и литаврах. Обычай иметь при княжеском дворе музыкантов и танцовщиков заимствован киевскими князьями из Византии. Касаясь содержания этой фрески, Н. Гальковский делает такой вывод: «Фрески Киевского собора писаны, конечно, греческими художниками и в силу византийских традиций. Очевидно, в Киеве сочувственно относились к музыке и пляскам, иначе не позволили бы сделать такого рода изображение» [43].
В Византии-то, конечно, к пляскам относились с сочувствием, но только не все. Тут возникает еще одна значимая культурологическая проблема, связанная с взаимодействием между разными культурами, в данном случае, между Византией и Древней Русью, да и не только Древней Русью. К. Леонтьев, например, находил очень много византийского вообще в русской культуре. Проблема, однако, заключается в том, что в византийской культуре, по утверждению В. Живова, имели место две противоположные традиции: гуманистическая и аскетическая. В этом обозначении разных тенденций улавливается оппозиция между культурой идеационального и культурой чувственного типа. Если гуманистическая традиция свидетельствовала о преемственности, а, следовательно, о неизбежности в Византии продолжения античной традиции, то аскетическая традиция античному наследию и имперской идее противостояла. Она была связана с христианством. Конечно, хорошо известные на Руси и Иоанн Златоуст, и Максим Грек были сторонниками именно этой последней традиции.
Спрашивается, когда мы говорим о влиянии византийской культуры на культуру русскую, то активность какой традиции следует применительно к Руси иметь в виду. Какая из этих двух традиций получила в русской культуре дальнейшее развитие? Задавая этот вопрос, В. Живов утверждает, что на Руси получила развитие именно аскетическая традиция [44], и это утверждение, естественно, не вызывает возражений. Что же с помощью этого вывода можно объяснить в зрелищно-развлекательной культуре? А то, что если лицедейство и скоморошество в Византии уравновешивались гуманистической традицией, поощрявшей языческое веселье, то на Руси такое равновесие находилось под постоянной угрозой. А в ХVII веке как веке переходном оно вообще перестало существовать. Аскетическая традиция на Руси была определяющей и, можно сказать, единственной. Хотя, конечно, время от времени здесь появлялись субкультуры вроде средневековых вольнодумцев – стригольников, которых Б. Рыбаков представил выразителями начальной стадии русского средневекового гуманизма, зарождавшегося в массе городского населения ХIV века [45].
Но самое главное, что характеризует универсализм скоморохов, – это то, что этот институт еще не разорвал полностью связь с ритуалом, а значит, и с мифом. Ведь если мы констатируем связь скоморохов с сакральным, то это уже означает и мифологическую природу скоморошества, поскольку сакральное существует там, где есть миф. Любопытно, что искусство скоморохов в культуре идеационального типа – это часть обряда, приложение к нему. Но это одновременно и обещание будущих жанров, которые из обрядовых практик могут развиться, а могут и не развиться. Скажем, из таких обрядовых и сакральных форм в античной культуре возникает трагедия, да и театр в целом. Значит, возникает и жанр, и в то же время вид искусства – театр. Но чтобы это произошло, необходимо было, чтобы какой-либо предмет воспринимался носителем сакрального.
Таким носителем сакральности первоначально был не человек, как это произойдет позднее, а, например, просто дерево или кукла. Это та ранняя стадия в истории Духа, которую Гегель обозначил как символическую стадию. На этой стадии божество еще не предстает в человеческом образе. Не забудем, что скоморошество – это и стихия, породившая кукольный театр как еще одну разновидность искусства. Когда мы используем выражение «кукольный театр», то под ним мы подразумеваем тоже зрелищно-развлекательную форму. Но следует иметь в виду, что этой эстетической форме предшествовала форма, в которой кукла была элементом обряда, т.е. она обладала сакральными свойствами. Но кукла – это не окончательная форма носителя сакральной стихии, а лишь временная. Процесс формирования религии, которая на своей зрелой фазе развития носителем сакрального сделает бога в образе человека, на стадии поклонения кукле еще не закончился.
Поставим в этот процесс становления религиозного чувства некоторые обряды, например, масленицу, которая, конечно же, без скоморошьих потех не происходила. Центральным смысловым действием этого обряда было сжигание, т.е. умерщвление масленицы, которую наши далекие предки представляли в виде чучела, той же самой куклы. Но что означает это чучело, эта кукла? Она означает движение в сторону очеловечивания религии, представления божества в человеческом облике. Но, спрашивается, зачем же куклу убивать? Кстати, эта кукла часто имела название, как это происходит в случае с масленицей. Масленица – это не только праздничное время, но это и имя. Имя чучела или куклы. Это вообще праздничная фигура. В одних обрядах такую фигуру называют Костромой, в других Купалой. В. Пропп утверждает, что во многих праздниках повторяется одна и та же константа, а именно, похороны, потопление, сжигание, разрывание чучела или дерева на части.
Так почему же все сводится к убийству этой фигуры? Потому, что убийство, насилие – прообраз христианской Голгофы. Без смерти не возникнет сакральная аура центральной фигуры праздничного обряда, которую следует воспринимать как ранний, варварский вариант божества. В данном случае смерть предстает средством сакрализации, т.е. трансформации человека в бога. Вот и получается, что смысловым центром праздничного обряда оказывается, как это понимал еще Д. Фрезер, умирающий и воскресающий бог. Почему же при этом предвосхищении христианской Голгофы присутствуют скоморохи, что им в этой ситуации с их кривлянием и обезьянничанием, казалось бы, делать. Ведь речь идет о смерти, а, следовательно, об оплакивании. А когда плачут, веселье неуместно. Но оно все же присутствует.
Да, речь идет именно об оплакивании, да еще одновременно и о смехе. И вот этот смех, как и оплакивание, будет в таком обряде иметь сакральный смысл. И плач, и смех сопровождают трансформацию фигуры куклы в сакральную фигуру. Если плач соотносится со смертью, то смех – с жизнью. Но если речь идет об обряде убиения, насильственной смерти, в данном случае, о сжигании масленицы, то при чем тут смех и жизнь? Опять согласно тому же Д. Фрезеру, умерщвление в архаическом обряде – лишь часть этого обряда. За умерщвлением следует воскресение, а вот воскресение будет сопровождаться ликованием, весельем и смехом. Собственно, это мифологическое представление предполагает, что обряд совершается не одновременно, а последовательно. Сначала божество умирает, а затем через какое-то время оно возвращается к жизни, что и провоцирует веселье.
В трактовке обряда с умиранием божества разные культуры не совпадают. Вот, скажем, странное отклонение от известного мифа происходит в средневековой Руси. В. Пропп утверждает, что «в русских праздниках не момент воскресения, а, наоборот, момент растерзания, утопления и сожжения сопровождается ликованием, весельем, смехом и фарсовыми действиями» [47], а, следовательно, имело место участие скоморохов. В этом обряде смех необходим, а значит, необходимы и скоморохи. Смех – это тоже средство сакрализации, выражение сакрального. Он необходим потому, что обряд имеет магический смысл, а его функции – магические функции. Обряд совершается ведь в земледельческой, аграрной культуре, в которой все помыслы земледельца связаны с плодородием и обильным урожаем. Вот этому плодородию и обильному урожаю способствует смех как магическое средство. Ну где, скажите, в этих действиях скоморохов во время праздничных обрядов может быть развлечение? Его и нет, как его нет во всей культуре идеационального типа. Его нет, поскольку обрядовое действие здесь является магическим актом. Да, собственно, и функции скоморохов отнюдь не сводятся к развлечению. Как и юродивые, скоморохи тоже воспринимались знахарями и колдунами.
Указание на эту сторону деятельности скоморохов мы находим у Н. Гальковского. «Профессия мимов и скоморохов всюду была в презрении. Обычай мимов маскироваться, петь веселые, часто непристойные песни напоминал вакхический культ Диониса; мимы – вожаки дрессированных зверей, занимались знахарством, ворожбой, – все это возбуждало строгое осуждение со стороны ревнителей христианства в Византии» [48]. Так, один из древних обрядов, связанный с поминками по умершим, вызывает удивление, поскольку в нем принимают участие скоморохи. Скоморохи – соучастники поминок. Поминки превращаются в разгул, который в некоторых случаях продолжается всю ночь. Между тем, данный обряд сохраняет связь с тризной, которая Д. Беляеву кажется странной. «В сем случае, – пишет он, – остается непонятным веселый, комический характер этой тризны, но он, как кажется, явился уже позднее, когда с уничтожением язычества мало-помалу забылось серьезное значение тризны и игры ее остались в виде пустого обряда, под который подложено было уже вновь назначение развеселять и утешать плачущих по умершим» [49].
Совсем не так. Согласно суждению Д. Беляева, веселье – это поздняя фаза функционирования обряда, когда он вырождается и превращается в чистое развлечение. К такому выводу можно прийти лишь в том случае, если исключить сакральный смысл самого смеха и веселья. Д. Беляеву не удалось объяснить, в чем заключался смысл песен и плясок скоморохов как соучастников поминального обряда, но он верно ощутил признаки его вырождения, т.е. превращения сакрального его смысла в профанный смысл или, иначе говоря, в развлечение.
Но скоморохи сопровождают не только поминальные, но и свадебные обряды. Глумотворцы и гусельники присутствуют и здесь. Магические функции их представлений здесь налицо. Констатируя сохранение этой традиции еще и в ХVII веке, Д. Беляев пишет об охраняющем и благожелательном воздействии их игр. «Трудно решить, – пишет он, – заключалось ли это влияние в самих инструментах как вещах священных или охранение здесь зависело от простого действия шумных звуков на невидимые демонические силы, – как бы то ни было, но употребление скоморошьих игр и музыки при свадьбах так сильно в народе, что оно, несмотря на запрещения духовенства, хранилось и доселе хранится в народе» [50]. Так, констатируя магический смысл смеха, сопровождавшего представления скоморохов, мы движемся к разгадке потребности в скоморохах в культуре идеационального типа, что кажется невозможным.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Лотман Ю. О содержании и структуре понятия «художественная литература» // Лотман Ю. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн: Александра, 1992.
[2] Евреинов Н. Театр для себя. Пг.: Изд. Н.И. Бутковской, 1915.
[3] Бернштам Т. Следы архаических ритуалов и культов в русских молодежных играх «Ящер» и «Олень» // Фольклор и этнография. Проблемы реконструкции фактов традиционной культуры. Л.: Наука, 1990. С. 17.
[4] Хренов Н. «Человек играющий» в русской культуре. СПб.: Алетейя, 2005.
[5] Аверинцев С. Бахтин и русское отношение к смеху // От мифа к литературе. М.: Издательство «Российский университет», 1993. С. 313.
[6] Сорокин П. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. СПб.: Издательство РХГИ, 2000. С. 48.
[7] Хренов Н. История искусства в ракурсе социодинамики культуры // Вопросы культурологии. 2015. № 4, № 5.
[8] Топоров В. Московские люди ХVII века (К злобе дня) // Philologia slavica. К 70-летию академика Н.И. Толстого. М.: Наука, 1993. С. 192.
[9] Сорокин П. Указ. соч. С. 11.
[10] Гегель Г. Сочинения. Т. ХI. Кн. 3. Лекции по истории философии. М.-Л.: Соцэкгиз, 1935. С. 155.
[11] Гайм Р. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума. СПб.: Наука, 2006. С. 129.
[12] Там же. С. 129.
[13] Там же. С. 762.
[14] Веселовский А. О методе и задачах истории литературы как науки // Веселовский А. Историческая поэтика. Л.: Художественная литература, 1940. С. 44.
[15] Там же. С. 48.
[16] Гайм Р. Указ. соч. С. 794.
[17] Там же. С. 770.
[18] Там же. С. 704.
[19] Герберштейн С. Записки о Московии. М.: Изд. Московского университета, 1988. С. 117.
[20] Лебедев В. К истории кулачных боев на Руси // Русская старина. 1913. № 7. С. 103.
[21] Там же. С. 112.
[22] Там же. С. 104.
[23] Кузнецов Е. Цирк. Происхождение. Развитие. Перспективы. М.-Л.: Academia, 1931. С. 19.
[24] Бернштам Т. Будни и праздники: поведение взрослых в русской крестьянской среде (ХIХ – начало ХХ в.) // Этнические стереотипы поведения. Л.: Наука, 1985. С. 125.
[25] Там же. С. 145.
[26] Веселовский А. Разыскания в области русского духовного стиха // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. XXXII. № 4. СПб.: Изд. Имп. Академии наук, 1883. С. 130.
[27] Там же. С. 130.
[28] Лихачев Д., Панченко А., Понырко Н. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984. С. 81.
[29] Там же. С. 72.
[30] Хренов Н. От юродства инока Авраамия до перформанса О. Кулика // Странный художник. 2015. № 1. С. 75-81.
[31] Лихачев Д., Панченко А., Понырко Н. Указ. соч. С. 72.
[32] Иванов С. Блаженные похабы. Культурная история юродства. М.: Языки славянских культур, 2005. С. 107.
[33] Там же. С. 130.
[34] Там же. С. 133;
[35] Там же. С. 266.
[36] Дневник камер-юнкера Ф.В. Берхгольца. 1721-1725. М.: Университетская тип., 1902. С. 118.
[37] Там же. С. 118;
[38] Гальковский Н. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. 1. Харьков: Епархиальная тип., 1916. С. 340.
[39] Панченко А. Русская культура в канун петровских реформ. Л.: Наука, 1984. С. 64.
[40] Миллер В. Русские былины, ее слагатели и исполнители // Русская мысль. 1895. № 10. С. 15.
[41] Забелин И. Из хроники общественной жизни в Москве в ХVIII столетии // Сборник общества любителей российской словесности. М.: Тип. И. Н. Кушнерев и Комп., 1891. С. 558.
[42] Веселовский А. Разыскания в области русского духовного стиха… С. 157; Памятники литературы Древней Руси. ХVII век. Кн. первая. М.: Художественная литература, 1988. С. 5.
[43] Гальковский Н. Указ. соч.
[44] Живов В. Византия и Древняя Русь: диалог культур // Диалог культур. Материалы научной конференции «Випперовские чтения – 1992». Выпуск ХХV. М.: ИВГИ РГГУ, 1994. С. 39.
[45] Рыбаков Б. Стригольники. Русские гуманиcты ХIV столетия. М.: Наука, 1993. С. 203.
[46] Пропп В. Русские аграрные праздники. СПб.: Изд. Ленинградского университета, 1963. С. 91.
[47] Там же. С. 95.
[48] Гальковский Н. Указ. соч. С. 315.
[49] Беляев Д. Указ. соч. С. 72.
[50] Там же. С. 73.
© Хренов Н.А., 2019
Статья поступила в редакцию 17 января 2018 г.
Хренов Николай Андреевич,
доктор философских наук, профессор,
Всероссийского государственного университета
кинематографии им. С.А. Герасимова.
e-mail: nihrenov@mail.ru

ISSN 2311-3723
Учредитель:
ООО Издательство «Согласие»
Издатель:
Научная ассоциация
исследователей культуры
№ государственной
регистрации ЭЛ № ФС 77 – 56414 от 11.12.2013
Журнал индексируется:
Выходит 4 раза в год только в электронном виде
Номер готовили:
Главный редактор
А.Я. Флиер
Шеф-редактор
Т.В. Глазкова
Руководитель IT-центра
А.В. Лукьянов
Наш баннер:

Наш e-mail:
cultschool@gmail.com
НАШИ ПАРТНЁРЫ:
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Культуру культуры» обязательна.
© Научная ассоциация исследователей культуры, 2014-2024







