НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Научное рецензируемое периодическое электронное издание
Выходит с 2014 г.

Гипотезы:
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Э.А. Орлова. Антропологические основания научного познания
Дискуссии:
В ПОИСКЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (рубрика А.Я. Флиера)
А.В. Костина, А.Я. Флиер. Тернарная функциональная модель культуры (продолжение)
Н.А. Хренов. Русская культура рубежа XIX–XX вв.: гностический «ренессанс» в контексте символизма (продолжение)
В.М. Розин. Некоторые особенности современного искусства
В.И. Ионесов. Память вещи в образах и сюжетах культурной интроспекции
Аналитика:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
А.Я. Флиер. Социально-организационные функции культуры
М.И. Козьякова. Античный космос и его эволюция: ритуал, зрелище, развлечение
Н.А. Хренов. Спустя столетие: трагический опыт советской культуры (продолжение)
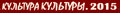

Ключевые слова: Культура, сложность, синкретичность, комплексность, системность, специализированность, структура, связи.
Немного найдется терминов, имеющих столь широкое хождение, как в естественных, так и в общественных науках, как сложность. Понимание его во многих случаях размыто и полуинтуитивно. Обилие определений, стремящихся установить качественную природу сложности взамен привычных количественных, ясности не вносит. Применение таких определений к материалу почти всегда скатывается к установлению опять же количественных характеристик. Исключение составляет, пожалуй, синергетика. Но о ней следует говорить «особой строкой»: там само понятие сложности имеет специфическое содержание, трудно переносимое в другие области знания. В поисках синтетических и междисциплинарных подходов рождаются такие эпистемологические фигуры, как разделение терминов сложность и сложностность или даже «парадигма сложности». Последний термин даже при самом широком понимании сложности, представляется методологически сомнительным. Синтеза же пока не просматривается: типичные определения остаются довольно невнятными и нередко подобны следующему. «Сложные системы – это системы, которые состоят из множества взаимодействующих частей, обладающих способностью порождать новые качества на уровне макроскопического коллективного поведения, проявлением которого является спонтанное формирование различимых темпоральных, пространственных или функциональных структур». В моделировании таких структур «можно выделить следующие главные концепции и инструменты: самоорганизация, нелинейная динамика, синергетика, теория турбулентности, динамические системы, катастрофы, нестабильность, стохастические процессы, генетические алгоритмы и компьютерный интеллект» [1]. Очевидно, что дать окончательное синтетическое и пригодное для всех наук определении сложности не удастся. Но в региональном масштабе все же разобраться необходимо. Ведь недифференцированное и эклектическое употребление термина создает не просто неточную, но сильно искаженную картину. В гуманитарных и общественных науках, не имеющих опоры на математический аппарат, такие искажения менее распознаваемы и потому особенно опасны.
В смыслогенетической теории культуры необходимость дифференциации эпистемы сложности диктуется еще и тем, что с соответствующим феноменом связаны разнообразные проявления одного из глобальных эволюционных векторов (ГЭВ), имеющие прямое отношение к широчайшему спектру культурогенетических и эволюционных процессов, не говоря уже о его действии за пределами Культуры. Если же не упускать из виду, что проявления всех ГЭВ теснейшим образом переплетены, то значение феномена сложности становится универсальным. Остается добавить, что первичный уровень сложности обнаруживается в любых структурных образованиях как автономно-устойчивых целостностях. Над структурным уровнем располагается уровень системный, на котором характеристики сложности изменяются не только количественно, но и качественно.
Итак, для нужд системной теории культуры, и вероятно, не только для них, возникает необходимость бинарно дифференцировать эпистему сложности по трем основаниям:
• сложность синкретическая и комплексная,
• сложность системная и сложность специализации,
• сложность самих элементов структуры/системы и сложность связей/отношений.
Сложность синкретическая и комплексная [2]
Нарастающая популярность термина синкрезис, как это, к сожалению, часто случается, приводит к неоправданному расширению его употребления. Под синкрезисом и синкретичностью понимают то, что во многих случаях корректнее было бы назвать комплексом, синтезом, агрегатом, смешением, диффузией и т.п. – т.е. условно целостные состояния, полученные путем вторичного соединения уже дискретизованных и проявленных по отдельности элементов. Синкретизм же в строгом понимании – это всегда целостность внутренне нераздельная. Здесь аналитическая выучка научного интеллекта ставит эффектную подножку: умозрительное дифференцирование и препарирование изучаемого объекта создает иллюзию его разделенного и механически составного состояния в действительности. Это неудивительно: ведь рационалистический интеллект не представляет себе иной сложности, кроме как составленной из уже определенных в своей дискретности «простых» компонентов. Но сложность неразделенного – сложность скрытая, имплицитная − ускользает от приученного к аналитическому видению сознания. Выработка новых подходов к пониманию эволюционных процессов в Культуре требует если не решения (сходу эту проблему не решить), то хотя бы постановки проблемы методологии и эпистемологии описания синкретической сложности или, точнее сказать, сложностности.
Прежде всего, следует преодолеть одну из наиболее закоренелых аберраций аналитического сознания: бессознательной убежденности в том, что синкретические формы/состояния распадаются сразу на дискретные элементы, которые содержатся в них как бы уже в готовом виде. В действительности же распад синкрезиса всегда представляет собой поэтапное расслоение. Так, все бесконечно усложняющиеся в ходе своего ветвления подсистемы культур восходят к палеосинкрезису конца среднего – начала верхнего палеолита. Каждое взятое в конкретной исторической точке состояние предстает синкретической основой для дальнейшего дифференцирующего расслоения-усложнения. Движение это, разумеется, нельзя представлять одномерно: в виде прямого вектора линейной поступательной кумуляции. Имеет место и вторичное упрощение форм, и их деградация, и сбросы-расчистки в эпохи кризисного переусложнения, и имитация синкрезиса в разнообразных моделях архаизации [3]. Чередование фаз дискретизации и комплексного усложнения, с одной стороны, и вторично-синкретического упрощения, с другой, в целом подчинено волновым ритмам глобальных процессов интеграции и дезинтеграции. Последние, в свою очередь, опосредуются особенными обстоятельствами эволюции локальных культурных систем (ЛКС). Тем не менее общеэволюционная тенденция состоит в движении от целостных форм к дискретизованным и, соответственно, от синкретической сложности к комплексной.
Расслаивая синкрезис материнского целого, эмансипирующиеся формы, имманентно развиваясь, направлены к воспроизводству в своем материале максимальной полноты исходного целого. Ее достижение указывает на замыкание на себя, когда структура (подсистема) за счет высокой внутренней дискретизованности способна наращивать комплексную сложность самостоятельно. Разнообразно комбинируя при этом структурные элементы, она минимизирует связи с материнским целым, вытесняя их на периферию. Так ведут себя подсистемы культуры, отпочковывающиеся от синкретической мифоритуальной основы: язык, магия, производство, изобразительный комплекс, повседневный быт и т.д. Однако на ранних этапах культурно-исторической эволюции замыкания подсистем на себя не происходит: центростремительная сила синкрезиса еще слишком велика. Но позднее, когда расслаивалась уже не палеосинкретическая матрица первобытности, а вторично синтезированный в эпоху дуалистической революции образ духовного Абсолюта, продукты этого расслоения – суть подсистемы культуры большого общества: религия, наука, философия, искусство, сфера технологий и некоторые другие уже моделировали каждая свой собственный смысловой мир: автономный и по-своему самодостаточный.
Таким же образом развивается и социогенез как специализирующая адаптация. От «универсального» человека первобытности и ранней архаики «отслаиваются» его модусы – воплощения специализированных социокультурных практик: шаманских, военных, ремесленных, земледельческих и других. Каждый из них, в свою очередь, оказывается синкретической основой для последующего расслоения – наращивания комплексной сложности социальных функций. При этом ЛКС как целое, в силу своей специфики, способна стимулировать расслоение синкрезиса по одним направлениям и блокировать по другим. Так, расслоение социокультурного типа китайского чиновника, включавшего в себя полувыделившиеся практики советника, жреца, хозяйственного руководителя, каллиграфа, поэта, художника, ученого книжника, политика и военачальника, было заблокировано системным качеством культуры: даже профессионального жречества в Китае не появилось. Данный пример, как и многие подобные, показывают, что высокий уровень сложности социальных структур и отношений вполне может быть достигнут и под оболочкой не распавшихся до конца синкретических форм, т.е. в русле наращивания синкретической, а не комплексной сложности. Вообще, уровень и характер динамики/блокировки распада сложно-синкретических форм – одна из важнейших характеристик ЛКС, поскольку он отражает направление эволюционного развития: либо усложнение в матрице синкрезиса, либо наращивание комбинаторной сложности дискретизующихся форм.
Следует помнить, что во всеохватном ритмическом чередовании состояний интегрированности и дифференцированности, последние воплощают эволюционный тренд ГЭВ, «отвечающий» за адаптацию и специализацию форм, т.е. главным образом, за горизонтальное движение эволюции. Процессы дифференцирования и дискретизации компонентов структуры/системы увеличивает их количество, что в свою очередь, повышает число и плотность внутренних комбинаторных взаимодействий. Время в такой системе течет быстрее, расширяется амплитуда флуктуаций, и нарастают параметры комплексной сложности. Однако по мере закрепления за отдельными компонентами все более специализированных функций, соразмерно убывает их изначальная синкретическая полифункциональность, когда одна и та же структурная или смысловая единица в зависимости от контекста могла, оставаясь сама собой, т.е. не теряя своей целостности, выполнять широкий набор функций. Простейший пример – лексические единицы древних языков или графем, которые могли в зависимости от ситуации употребления, нести при неизменности формы, широкий набор означаемых, иногда противоположных по своему содержанию. Амбивалентность значений – своего рода атавизм архаического синкретизма, где под оболочкой общей лексемы, одно из противоположных или просто разных значений актуализуется путем контекстуальной аранжировки (акцентуации) смысла [4].
В связи со сказанным, напомню пример с амбивалентным значением мифемы крови и ее изофункциональных магических коррелятов, прежде всего, охры. В зависимости от ритуально-магического контекста, все репрезентирующие кровь знаковые формы могли употребляться как в значении жизни, так и в значении смерти. Ключевой же, думается, была, прежде всего, идея самого перехода между мирами. Примечательно, что, будучи не в силах преодолеть центростремительную блокировку десинкретизации особенно важных и энергетически мощных смысловых комплексов, архаическое сознание прибегает к их внутреннему удвоению: сополаганию амбивалентных качеств под общей синкретической оболочкой. Пример: двухголовые фигурки женских божеств неба и некоторых иных существ в неолите. Важна не только семантическая множественность сополагаемых значений, главные из которых определяются контекстуально. Не менее важна их подвижность, поливалентность, текучесть. Симметричное выделение архаическим сознанием парных значений из пучка смысловых возможностей редко доходит до высоких степеней определенности. В общем случае, подобно тому как психосферное образование способно обнаруживать себя в разных эмпирических формах, так и субстратное переживание той или иной таковости может иметь разные семантические облачения. Проще говоря, не столь важно, какова форма сообщения, сколь то, что под ней ситуационно понимается. Последнее же задается общим контекстом, тогда как само сообщение (вербальное или изобразительное) служит скорее указателем, уточняющим общее смысловое направление. Элементы бинарных оппозиций могут с той же легкостью заменятся изофункциональными коррелятами из исходного смыслового пучка, сколь легко психическая матрица меняет свои эмпирические оболочки [5]. При этом содержание корреляций может быть навязано принудительно и не вытекать из каких-либо «объективных связей». Ведь, как уже отмечалось, древняя ментальность нацелена на контакт прежде всего с психосферной, а не с эмпирической реальностью. Не случайно этнографическая литература переполнена изумленными комментариями исследователей по поводу «иррациональной» ассоциативности аборигенов, связывающей между собой, казалось бы, совершенно разнородные вещи и их семантику [6].
Если архаическая мысль устремлена не столько к эмпирическим вещам, сколько к их психосферным коррелятам, то чем ближе к палеосинкрезису, тем более размыты, диффузны и текучи выделяемые соположения. Такое оперирование смысловыми элементами отражает одну из наиболее ранних стадий расслоения синкрезиса, где целое и его компоненты связаны таким образом, что ни о выделенности, ни о не-выделенности в привычном понимании говорить не приходится. Вообще, отсутствие понятийно-терминологического аппарата для описания синкретических состояний и феноменов – ахиллесова пята рационалистической науки. Проблема это пока даже по-настоящему не осознана. Плата – почти полная неспособность видеть громадный пласт культурной реальности, живущей и развивающейся в режиме синкретической, а не комплексной сложности, которую только и способна распознать аналитическая оптика.
Проиллюстрировать названную проблему можно на примере структурных трансформаций древних мифосемантических комплексов. Если обратиться к мифосемантике верхнего палеолита – неолита, то легко обнаружить, что далеко не всегда ряд мифологических образов, явно связанных общим синкретическим происхождением, можно свести к воплощениям общего прообраза или даже его ипостасям. Связь, которая устанавливается между ними в архаическом сознании, отмечена, соответственно, синкретическим типом сложности.
Так, широко распространенный в древности образ быка-луны, будучи сущностно связан с силами низа [7], вовсе не обязан вследствие этого выступать ипостасью некоего «главного» и изначально единого хтонического божества: такого в архаике могло не быть вообще. Его (божества) целостный образ – скорее всего, логическая аберрация современного сознания с его генерализующими и монистическими устремлениями. Точнее впрочем, будет сказать, что «общее» божество низа было представлено в архаическом сознании смутным полупроявленным образом, выраженном в незамкнутом множестве семантических проекций, которые некорректно называть на более поздний лад ипостасями. Образы-воплощения психосферного хозяина нижнего мира могут не только взаимно заменять друг друга, но и бороться и соперничать меж собой. Бык-луна, к примеру, мог выступать и как божество низа, и как его антагонист, и как его (или приносимая ему) жертва. Так же олень и позднее конь, будучи по своей «психосферной сущности» существами хтоническими, оказываются в определенных мифоритуальных обстоятельствах жертвами некоего существа, воплощающего иные качества хозяина подземного мира. В частности, распространенным изобразительным мотивом выступает сюжет терзания оленя хищником: чаще львом или леопардом, которые сами являют образы божеств низа, но в других его контекстуальных функциях.
Эти и множество других подобных примеров показывают, как под оболочкой психосферной «единосущности» разворачиваются сложно-синкретические смысловые диспозиции, где контекстуальная подвижность очень медленно уступает место откристаллизованным в традиции формам. Так специализирующая кристаллизация значений в традиции придала мифосемантике образов коня и собаки свойства психопомпов, выделенных ритуально-магическим опытом из общего комплекса функций существ, которые репрезентируют стихии низа. Вопрос о том, что здесь первично: глубинная психосферная природа этих существ или исторически складывающиеся в силу разнообразных частных обстоятельств мифоритуальные конвенции, остается открытым. Представляется, что ответ кроется в особенностях взаимоизменений первого и второго в ходе ритуально-магических действий. Собственно, привязывание семантических эквивалентов к выхватываемым из психосферы формам-состояниям и закрепление этого привязывания в культурной норме (языковой, поведенческой и т.п.) – и есть путь расслоения синкрезиса, заменяющего синкретическую сложность на комплексную.
Можно сказать, что синкретическая сложность продуцируется смысловой многозначностью, которую нельзя назвать в строгом понимании ни чисто потенциальной, ни налично актуальной, поскольку составляющие интенционально-смыслового пучка находятся лишь на пути из имплицитного состояния в эксплицитное. Любые актуализованные значения (формы) связываются здесь с потенциальными или полупроявленными смысловыми возможностями. Связь осуществляется незримой синтагматикой контекстуальных медиаторов, не сводимых лишь к интенционно-артикуляционным нюансам. Реконструировать их, пользуясь аналитической методологией, практически невозможно. Интенциональные пучки – субстраты структур синкретической сложности обнаруживают себя в виде мерцающих смыслов, уже участвующих в ментальных процессах, но не получивших определенно-дискретного оформления.
Состоянию синкретической сложности соответствует преимущественно флуктуационный тип изменений в системе. Облако контекстуально-ситуационных отклонений от базового (центрального) смысла-(или формы)-якоря, разнообразно смещаясь, удерживается его центростремительным интенциональным притяжением. А устойчивое усиление однородных флуктуаций «на флангах» может сместить положение самого центра (якоря), но не отпустить флуктуирующие формы в «свободное плавание». Для этого нужна мутация – структурное перерождение изменяющейся формы, когда она, обретая свой собственный центр, отслаивается от первоначальной материнской структуры (системы). Но это – уже тип изменений в поле не синкретической, а комплексной сложности. Разумеется, кристально четких границ здесь, как и во многих других случаях, искать не следует. Сохраняя множество связей с материнской структурой, отпадающая форма принадлежит в разных своих определениях и функциях к полю как синкретической, так и комплексной сложности.
Процесс расслоения синкрезиса и нарастания комплексной сложности инициирует сквозной тренд к усилению конфликта структур в эволюционных процессах. Чем больше в системе автономных, свободных от синкретической связанности структур, тем выше плотность как внутренних, так и внешних структурных противоречий и конфликтов. Этот тип взаимодействий создает особое поле изменений, часть из которых инициирует эволюционные ароморфозы, что ставит общую эволюционную динамику в прямую зависимость от режима и темпов расслоения синкретических форм. Нетрудно заметить, что в архаических культурах, где господствует синкретизм, пространство внутрикультурных противоречий мало и расширяется очень медленно, главным образом, за счет внешних вызовов и воздействий. Внутренние же конфликты не вызревают, не достигают ясности дискретных диспозиций, снятие которых рождает продуктивный синтез и качественно новые формы. Результатом «увязших в синкретизме» структурных противоречий остается лишь увеличение синкретической сложности, которая может тысячелетиями не переходить в комплексную.
Сложность системная и сложность специализации
Как это ни странно, но даже серьезные авторы нередко присоединяются к обывательскому изумлению перед сложными технологиями древних народов. Будучи убеждены, что достигнутый уровень сложности в какой-то одной области непременно должен присутствовать и в других, они не находят рациональных объяснений тому, что в истории это сплошь и рядом оказывается не так. И тогда проблема в лучшем случае относится в разряд неразрешимых, а в худшем – обрастает всевозможными экзотическими фантазиями вроде инопланетных учителей, что, впрочем, к серьезным авторам отношения не имеет. Разрыв между системной и специализирующей сложностью нетрудно проиллюстрировать и на бытовых примерах. Так, конспиролог с примитивно-манихейской картиной мира может быть при этом высоко и сложно специализирован в своей профессиональной области, например, в инженерно-технической и т.п.
Различение вертикального и горизонтального типов эволюционирования позволяет дифференцировать эпистему сложности и таким образом: вертикальному типу соответствует сложность системная, тогда как горизонтальному – сложность специализации. При этом контраст уровней сложности может быть огромен, что нетрудно проиллюстрировать примерами из биологии; весьма примитивные по своей системной организации виды могут иметь сложнейшие специализированные органы. То же – и в эволюции культурной. К примеру, гунны имели сложную технологию изготовления луков, стреляя из которых наскоку, пробивали доспехи своих врагов. Но системная сложность их культуры оставалась при этом низкой. То же можно сказать и про любую древнюю культуру, удивляющую нас своими, казалось бы, невозможными техническими достижениями. И не только, разумеется, техническими. Так называемые примитивные народы имеют сложнейшую систему родства, языка и т.д. и т.п. Примеры можно множить бесконечно. Даже среднепалеолитическая технология изготовления каменных артефактов (например, леваллуазская) для современного человека по-своему настолько сложна, что делает почти невозможной ее имитацию.
Разделение системной и специализирующей сложности объясняет отсутствие прямых и жестких корреляций между эволюционной динамикой ЛКС как целого и адаптационным развитием ее подсистем. Поэтому уровень их специализации не может быть критерием эволюционного развития всей системы.
Специализация – адаптационный ответ на внешние вызовы среды. Внутренних стимулов она не имеет: имманентное свойство всякой структуры/системы – сохранение максимально целостного, недифференцированного и потому, неспециализированного состояния, которому можно дать несколько парадоксальное определение абстрактного универсализма, т.е. не универсальности проявлений, а универсализма возможностей. Определение формы как ответа организма (структуры) на импульсы среды не учитывает генетической основы морфогенеза; чтобы отвечать на импульсы надо уже иметь какую-то форму=онтологию. Первичное неразвернутое состояние системы характеризуется максимальной фрактальностью: отдельные ее элементы в своей абстрактной универсальности выступают наиболее репрезентативными сколками целого. В филогении культур этому состоянию соответствуют ранние предысторические формы: максимум палеокультурного синкретизма, своего рода, отправная точка его расслоения соответствует эпохе среднего палеолита, которая в смыслогенетической периодизации обозначается как палеокультура [8]. Завершение видовой эволюции человека коренным образом поменяло диалектику морфофизиологических и культурных адаптаций: верхнепалеолитический культурный взрыв инициировал динамичное расслоение палеосинкрезиса. Критерием расслоения явилось нарастание сложности функциональной специализации, что хорошо иллюстрируется расширением номенклатуры орудийного инвентаря. Абстрактная постбиологическая универсальность человека, его фрактальная соотнесенность с культурным целым пошла на убыль, а усиление «отпадения» смещало центр экзистенциальной привязанности в сторону специализации социокультурных функций.
Вообще, усложнение во всех пониманиях этого термина сопутствует смещению центра партиципаций практически всегда. Переживание нераздельной сопричастности чему-либо включает механизм смыслогенеза, инициируя тем самым, усложняющую дифференциацию образа адресата партиципации. Переживая «себя как себя и себя как другое» (Гегель), ментальность «прикидывает», проецирует на себя онтологию иного, открывается ему и делает тем самым первый шаг в сторону адаптивных специализирующих изменений. При этом режим психосферной медиации (ПМ), санкционирующий и обеспечивающий эти изменения, уже отличается от природного: специализируется не морфофизиология организма, а ментальные техники.
Адаптирующие специализации социокультурных функций всегда внутренне дифференцируют и тем самым усложняют систему, создавая в ней внутренние противоречия в виде конфликта структур. Последние могут быть как продуктивными, т.е. способствующими развитию и повышению общей жизнеспособности системы, так и контрпродуктивными – разрушающими целостность системной конфигурации. В таких контрпродуктивных случаях, система начинает бороться с опасным уровнем усложнения в подсистемах, даже если это грозит ей большими издержками и ограничивает ее адаптивность в большой исторической перспективе. Примеров тому в истории более чем достаточно. Для идеократических государств и, в особенности, имперского типа, борьба с разлагающим системообразующее ядро усложнением подсистем – неизбывная проблема. Здесь культура борется сама с собой, мучительно ища паллиативы. Впрочем, древние общества не сталкивались с этой проблемой во всей ее остроте: центростремительные синкретические связи и притяжение системного ядра еще сами по себе достаточно сильны, чтобы озаботиться искусственной нивелировкой периферийной сложности.
Почему адаптирующие специализации отдельных культурных практик не распространяют достигнутый уровень сложности на всю систему? Ответ в том, что любая культурная система:
• обладает структурно-конфигуративным генокодом, несущим и воспроизводящим ее специфические характеристики как целого. Слово генокод применительно к культуре звучит метафорично, но в свете того, что было сказано о механизмах самотранслирования культурных форм по каналам ПМ, аналогия представляется вполне корректной;
• стремится минимизировать и, в идеале, заблокировать свои конфигуративные изменения, т.е. оставаться на «генетически» предопределенном уровне системной сложности, поскольку этот параметр является корневым основанием ее онтологии и формулой ее «чтойности» в диалоге с психосферой;
• устремлена к локализации адаптирующего/cпециализирующего усложнения в своих автономизующихся подсистемах, что, собственно говоря, и стимулирует эту автономизацию;
• уравновешивает центробежное усложнение локальных специализаций в подсистемах усилением центростремительной нуклеации [9], что в свою очередь, нередко требует вторичного упрощения системного целого. Чем выше и уже специализация подсистемных форм, тем больше система стремится их обособить и замкнуть в локальных адаптирующих функциях.
Экстраполяция достигнутого в какой-либо подсистеме уровня сложности на области других социокультурных практик возможно при наличии трех условий:
• экзистенциальной, а не просто утилитарно-бытовой необходимости такой экстраполяции,
• специальной на то культурной санкцией,
• ментально-языковой возможностью переноса специализированного опыта из одной сферы культуры в другую.
Интрига, однако, в том, что, чем выше сложность специализаций в какой-либо локальной области, тем сложнее безущербно конвертировать ее в материал и язык другой области.
В результате всего этого, между системной сложностью целого и специализирующей сложностью отдельных культурных локусов (подсистем, форм, отдельных практик) обнаруживается не просто ситуационный и устранимый разрыв, а фундаментальное и закономерное противоречие. Проще всего это противоречие можно было объяснить как отставание сложности системного целого от сложности его адаптирующейся к среде периферии, представленное суммой специализирующихся и автономизующихся вследствие этого подсистем. Но нельзя упускать из виду, что системная сложность и сложность специализаций несопоставимы количественно, хотя некоторая корреляция между ними, разумеется, есть. Любая форма может модифицироваться в адаптирующих специализациях лишь в пределах, установленных системным целым [10]. Та же логика действует и в культурогенезе. Как биологический организм выступает системным контуром для усложняющихся в адапциогенезе функциональных органов, так и в культуре содержание и количественный уровень сложности специализированных практик умеряется, сдерживается, ограничивается контуром системной конфигурации ЛКС. Масштаб разрыва для разных ЛКС в истории весьма разнообразен и зависит от множества внешних и внутренних факторов. Типологизация культур по этому признаку еще ждет своих исследователей.
Универсальной формулы снятия противоречия между разнокачественными состояниями системной и специализирующей сложности не существует в принципе. Разнокачественность здесь основывается хотя бы на том, что целое, как известно, не равно сумме частей, т.е. количество сложности системы не выводится из количества сложности разного уровня подсистем, и потому количество сложности специализаций не переходит в качество сложности системы. Здесь мы сталкиваемся с продуктивным диалектическим противоречием, имманентным самому объекту эволюционирования, а потому принципиально не снимаемым. Впрочем, каждой отдельно взятой системе от этого не легче. Историческая жизнь ЛКС предстает, в этом смысле, ареной постоянной борьбы и балансирования между центробежной динамикой специализирующего усложнения и центростремительным устремлением к стабилизации системных оснований.
В бесконечной череде исторических примеров фундаментальное значение приобретает неолитическая революция, в результате которой преодоление первобытной блокировки расширения культурного ресурса привело к взрывному развитию адаптирующих специализаций. При этом стабилизирующие силы нуклеации на любом этапе последующего развития ищут возможности для сдерживания инновативного разнообразия специализаций. Формы компромисса в ЛКС всегда своеобразны. Так, в Древнем Египте неолитический поворот к расширению ресурса дал «отмашку» в виде глубоко архаического по своим основаниям заупокойного культа, для которого изымалось до трех четвертей всех ресурсов общества. Это вовсе не означает, что ресурс этот пропадал зря, но всего лишь то, что культура санкционировала технологические и иные специализации, главным образом, в контексте этого культа – системообразующего центра древнеегипетской культуры.
Только плоский утилитаризм может считать, что ресурс, «замурованный в гробницы», истрачен впустую. Отнюдь. Заупокойный культ как ритуально-магическая форма ПМ имела не иллюзорный, а действительный эффект, поскольку выступала действенным решением фундаментальной экзистенциальной проблемы для каждого члена египетского общества от фараона и жреца до земледельца и раба. Вне «кормления богов» и живой экзистенциальной связи с загробным двойником, жизнь египтянина утрачивала не только осознаваемый смысл, но и самые свои психо-энергетические основания.
В этой связи представляется актуальным дифференцировать значение термина эффективность хотя бы в его применении к понятию ресурса. Утилитаристы модернизаторски экстраполируют современное понимание эффективности на общества прошлых эпох и, в том числе, даже на архаику. Они не учитывают, что в древних и, тем более, архаических обществах утилитарная эффективность концентрации, распределения и использования любого рода ресурсов не просто не отделялась от эффективности ритуально-магической, но была инкорпорирована в последнюю и ей подчинена, особенно в догосударственных обществах. И не осознавалась как нечто ей противостоящее. А современное понимание эффективности было древнему сознанию незнакомо.
При нахождении оптимального соотношения этих двух противоположных сил, ЛКС оказывается и максимально стабильной и, в то же время, максимально гибкой в своем адаптациогенезе, а потому – наиболее жизнеспособной. Вопрос о том, может ли способность к гармонизации названных типов сложности передаваться от одних ЛКС к другим, требует специального рассмотрения.
Эволюционная динамика сложности системной имеет иную природу, нежели динамика сложности специализаций. Связано это с тем, что усложняющие конфигуративные трансформации не обусловлены напрямую адаптациогенезом и не решают его задач. Наращивание системной сложности имеет мутационную природу и осуществляется скачком. Сущность этого скачка медиационная парадигма объясняет тем, что ход плавного адаптационного (горизонтального) эволюционирования в границах ветвления одного паттерна импликативного мира (ИМ) переходит к «разработке» другого паттерна, чья потенциальность способна в большей степени проявить содержание ГЭВ. Первым условием такого перехода выступает качественное изменение посылаемого в ИМ интенционального импульса (точнее, пучка импульсов) прежде всего, в плане усложнения и «утончения» его энергетической структуры.
Формы-носители нового уровня системной сложности всегда минимально специализированны, и это неудивительно. Высоко специализированную форму «вытолкнуть» из узкой эволюционной ниши невозможно: в ситуации критического давления средовых факторов узко и высоко специализированные формы просто гибнут, что регулярно и происходит с «отличниками» горизонтальной эволюции. А вот ее минимально специализированные маргиналы при определенном стечении обстоятельств оказываются в авангарде вертикальной (магистральной) эволюции. «Классический» пример – приматы, чья неспециализированность послужила пропуском в транссистемный вертикально-эволюционный прорыв, приведший в итоге к появлению человека.
В горизонтальной эволюции функциональные изменения, как правило, предшествуют структурным (эффект Болдуина). В вертикальной – наоборот. Поэтому рост системной сложности всегда опережает функциональную специализацию вертикально эволюционирующих форм. Носители нового системного качества с ее возросшим уровнем сложности живут, как бы опережая свое время, что создает для них множество проблем. Этим, объясняется часто наблюдаемый в культурах эффект, когда те или иные инновации, порожденные более высоким уровнем системной сложности, оказываются в «отстающей» среде неэффективными и невостребованными. В этой связи примечательна устремленность, с которой культурное сознание совершенствует и внедряет системные инновации, несмотря на их очевидную на первых порах неэффективность. Так, первые образцы огнестрельного оружия во всем уступали луку, но это не стало причиной отказа от их совершенствования. Объяснение этому и множеству подобных примеров в том, что внутренняя мотивация к наращиванию системной сложности как таковой оказывается сильнее не только принципа эффективности, но даже и принципа удовольствия. Достижение нового уровня системной сложности самоценно и не требует специальных обоснований, поскольку устремленность к нему коренится не в психологемах сознания, а гораздо глубже. Устремленность к скачковому наращиванию системной сложности обусловлена перманентным давлением ГЭВ и потому априорна, императивна и бессознательна. Вектор ее не только не совпадает с горизонтальным адаптациогенезом, но и полемизирует с ним, что порождает в культурах мучительные коллизии между вертикальными «революциями духа» и горизонтальными стратегиями приспособленчества. При этом носители нового качества системной сложности всегда, так или иначе, принуждены решать также и задачи адаптации, но для них выживание – не столько самоцель, сколько необходимое условие реализации нового уровня системной сложности. Когда пионерами нового уровня системно-сложностных форм выступают носители архаического сознания, то в его мифологическом мире причины, понуждающие жить и действовать не в соответствии с понятными принципами приспособления, могут корениться только в непостижимой и неодолимой воле высших запредельных сил. С каждым шагом исторической эволюции эти причины выкристаллизовываются из смутных мистических интуиций и рефлексируются, устремляясь к оформлению в религиозно-мировоззренческих доктринах. Фундаментальный прорыв осмысления системно-сложностных ароморфозов сопряжен с феноменом дуалистической революции и формированием концепта будущего в оптике эсхатологической перспективы. Отсюда же проистекает и психологическая установка служения как фундаментального способа культурной самореализации. Содержание служения, разумеется, может не иметь никакого отношения к увеличению системной сложности (часто как раз наоборот), но сама психологема принесения в жертву индивидуальных (групповых) приспособительных интересов или самого выживания ради «торжества идеи» порождена психическим режимом вертикального эволюционирования. Этот тренд, или, скромно говоря, сквозная тенденция – неуклонное наращивание уровней системной сложности (именно системной, а не сложности специализаций!) можно, по-видимому, связать с почти одиозным понятием прогресса, которое в дискурсе эмпирических исследований оказалось безнадежно дискредитировано.
Какова корреляция между системной и специализирующей сложностью? Можно ли бесконечно увеличивать сложность специализаций при сохранении имеющегося уровня общей сложности системы? Корреляция, разумеется, есть: ее просто не может не быть. Эта тема, однако, требует отдельного рассмотрения. Напрашивается аналогия с компьютером. Сложность программ не может бесконечно увеличиваться в оболочке неизменной сложности всей операционной системы. Рано или поздно наступает момент, когда системная сложность операционной системы должна выйти на следующий уровень, причем, не только для организации работы программ с уже достигнутым уровнем специализации, но и как бы «на вырост» – с учетом наращивания специализирующей сложности в будущем.
Именно так обстоит дело и в эволюции культуры, где роль операционной системы выполняет ментальная конституция. Сквозной тренд наращивания системной сложности в культурах – это, прежде всего тренд скачкового наращивания ментальных слоев, каждый из которых, представляет собой относительно автономную «операционную систему» со своими «служебными» и разнообразно специализированными программами. Но, в отличие от компьютера, ментальная сфера не форматируется, подобно жесткому диску. Ментальные слои исторически «устанавливаются» один поверх другого и образуют многомерную амальгаму внутренних связей, и потому, отношения системной и специализирующей сложности в культурах прослеживаются далеко не так просто, как в компьютере. «Операционные системы» ментальности не просто соседствуют друг с другом под одной оболочкой, они соперничают и борются между собой, что порождает в культурах острейшие внутренние противоречия. Так, рожденная вертикальным ароморфозом «на вырост» новая система, как правило, оказывается плохо «притертой» к условиям материнской системы и потому, неспециализированный универсализм на ранних этапах коэволюции материнской и новообразованной систем неизменно проигрывает высоко специализированному «примитиву». По мере развития собственных специализаций новой системы, ситуация выравнивается, и рано или поздно, приводит к полярной смене диспозиции и закату материнской системы. При этом если сложность специализаций может при соответствующих исторических обстоятельствах инволюционно деградировать, то рост сложности системной нередуцируем [11], а в большой исторической перспективе – необратим и в этом смысле может служить социокультурным аналогом закона необратимости эволюции Долло.
Из сказанного нетрудно заключить, что показателем эволюционного уровня выступает, прежде всего, сложность системная. В ином случае, невозможность, к примеру, для человека дышать под водой, указывала бы на его более низкий эволюционный уровень по сравнению с рыбой. Системный критерий эволюционного уровня заключается в том, что система более сложного и потому более высокого эволюционного порядка способна, в случае необходимости, вырабатывать адаптирующие специализации, соответствующие стадиально более простым системам. Последним же специализации более высокого системного порядка недоступны. Если Робинзон Крузо смог адаптироваться к первобытным условиям существования, то Пятница вряд ли адаптировался бы к жизни в европейском городе Нового времени. Показательный пример: когда испанцы осваивали территории цивилизаций Доколумбовой Америки, то нередко бывало, что местные индейцы приходили на площади возводимых испанцами городов, садились в круг и умирали. Их мир разрушился, а системное качество культуры не предусматривало адаптации к такого рода трансформациям.
Сложность элементов и сложность связей
Общая сложность всякой структуры/системы складывается из сложности самих входящих в нее элементов и сложности установленных между ними связей. Это различие обычно нивелируется обобщенным взглядом, приблизительно устанавливающим на глазок «общий уровень» сложности. Но различие тем не менее есть, и существенное. Как и в предыдущем случае, разрыв между уровнями сложности не может превышать некой критической величины; в ином случае структура просто разрушается. Но в допустимом диапазоне, соотношения сложности элементов и сложности связей могут достаточно широко варьироваться. При этом в эволюционной перспективе крайние позиции скорее альтернативны, чем стадиально-иерархичны или, иными словами, ни сложность элементов, ин сложность связей сами по себе не могут быть мерилом эволюционной «продвинутости» вообще.
Игнорирование названного различения чревато аберрациями, в силу которых очевидная сложность связей неправомерно вменяется самим структурным элементам. В истории сплошь и рядом наблюдаются структуры, в которых сложность связей превышает, и порой весьма существенно, сложность самих элементов.
«Возьмем, например, классическую греческую межполисную систему. Уровень сложности многих греческих полисов был достаточно низким даже в сопоставлении со сложным вождеством. Однако они были частями значительно более обширной и несравненно более сложной общности, образованной многочисленными экономическими, политическими и культурными связями и общими политико-культурными нормами. Экономические связи, конечно, играли какую-то роль в рамках данной системы. Но прочие связи были отнюдь не менее важны. Возьмем в качестве примера норму, согласно которой межполисные войны приостанавливались во время Олимпийских игр, что делало возможным безопасное движение людей, а значит, и огромного количества энергии, вещества и информации в пределах территории, значительно превосходящей территорию среднего сложного вождества. Существование межполисной коммуникативной сети де¬лало возможным, например, для индивида, родившегося в одном полисе, получить образование в другом полисе, а основать свою школу в третьем. Существование подобной системы долгое время резко уменьшало деструктивность межполисных войн. Она была той основой, на базе которой оказывалось возможным предпринимать значимые межполисные коллективные действия (что оказалось жизненно важным, скажем, в эпоху греко-персидских войн). В результате полис с уровнем сложности, недотягивавшим до такового у сложного вождества, выступал в качестве части системы, чья сложность оказывалась вполне сопоставимой с государством (и не только ранним)» [12]. А выше А.В. Коротаев, рассуждая об эволюционных закономерностях политогенеза, замечает: «Суть проблемы здесь заключается в том, что тот же самый общий уровень культурной сложности может достигаться как через нарастающее усложнение одной политии (поглощающей соседние политии), так и через развитие политически не централизованной межполитийной сети» [13].
Политогенез – частный случай, показывающий эволюционную альтернативность разных типов структурообразования. В соответствии с фрактальной природой культурной (и не только) реальности, общность принципов структурообразования распространяется на все уровни самоорганизации от макро – историческое формирование ЛКС до микро – образование локальных групп и сообществ, а также любого рода культурных текстов.
В русле нашей темы было бы наиболее интересно выделить три типа структурной самоорганизации: моноцентрический, полицентрический и сетевой. Под центром здесь понимается не просто локальная концентрация политических (властных), административных, управленческих, религиозных или каких-либо иных социально-организационных функций. Центр – это не пространственный топос, а средоточие базовых интенций и устойчивых смысловых конструктов, образующих исторический генокод для данной ЛКС. Иное дело, что в своем эмпирическом воплощении центр стремится закрепиться в оптимальных социальных, институциональных и семантических формах (включая разнообразные виды символизаций), смысловых диспозициях, а также в наиболее подходящих точках пространства. Напомню, что центр отличается от других элементов структуры способностью не только аккумулировать интенциональные потоки и выполнять транслируемые ими функции, но и, качественно трансформируя эти потоки, направлять их вовне и оказывать, тем самым индуцирующие и регулирующие воздействия на элементы структуры. Характер (но не содержание) этих воздействий определяется, главным образом, двумя факторами: структурной сложностью центра и его интенционально-энергетическим потенциалом.
В каждой ЛКС присутствуют все три типа, но доминирует всегда какой-то один. Между названными типами не существует стадиальной иерархии; каждый из них по-своему оптимален для соответствующей системы. Не бывает между ними и плавных количественных переходов; один тип не вырастает из другого. Условием перехода между структурными типами выступает глубокая деконструкция целого: кардинальное упрощение (дробление, «развинчивание») структурных элементов, упрощение сложившихся между ними связей и затем, реализация нового «принципа сборки».
Моноцентрический тип структурообразования подразумевает способность единого центра, расширяя поле своих организующих функций, сохранять синкретический тип сложности. Дифференцирующая специализация центра неизбежно приводит к его дезинтеграции, размыванию и утрате доминантного положения. Не случайно, в социоцентрических обществах авторитарного (с монархической формой правления или его аналогами), и в особенности имперского типов, самонастройка культуры блокирует дифференциацию функций репрезентирующих центр персон или институтов. Так, собственноручное занятие письмом в ряде традиций считалось «не царским делом», а имперские столицы никогда не выделяли и не выносили за свои пределы специализированные структуры, жертвуя при этом любыми рациональными резонами. Последние подталкивают столицу-мегаполис к разгрузке, вынесению структур, самостоятельно выполняющих определенные наборы функций вовне, и общества, не боящиеся усиления полицентризма, на это идут. Но моноцентристская установка сохраняет синкретическую сложность центра любой ценой. Обычно это кончается неконтролируемым распадом «перегретого» центра и децентрализацией всей системы. Наращивание синкретической сложности единого центра не переходит плавно в полицентризм: расслоение моно-центра всегда деструктивно. Отсюда – стремление моноцентрических ЛКС бесконечно удерживать синкретичность/сакральность своих репрезентируемых центром базовых оснований, ядерных смыслов и ценностей. Отсюда – болезненная неприязнь к любого рода рефлексиям и рационализациям – вернейшим признакам расслоения интуитивно схватываемой синкретичности.
Неизбывное противоречие между адаптацией и самосохранением состоит в рассогласовании типов сложности центра и периферии. Инертный центр удерживает меру синкретизма, полученную при рождении системы в результате вертикального ароморфоза, и потому структурный принцип здесь господствует над функциональным. Сдерживаемая ригидной структурой полифункциональность, развивается преимущественное под ее синкретической оболочкой. На периферии же торжествует эффект Болдуина: функциональные изменения опережают структурные. Здесь, на территории доминирования адаптивно-специализирующего (горизонтального) эволюционирования развитие новых функций стимулирует усложнение структурных связей, которое, в конечном счете, усложняет и сами элементы. Так фронт усложнения в направлении от функции к структуре движется от периферии к центру. Не случайно для социоцентрических обществ (а иных в мифоритуальных системах и не было) [14], особенно в эпоху глобального кризиса 1 тыс. до н.э. новаторские сотериологические и близкие им мировоззрения зарождались, как правило, на периферии. Неудивительно, в этой связи, что центр как элемент системы нередко оказывается менее сложен, чем периферия [15]. Особое значение приобретает здесь отношение системного центра к материалу избыточного разнообразия, который неизменно накапливается на периферии системы [16], увеличивая тем самым если не актуальный, то, по меньшей мере, потенциальный уровень сложности.
Если центр настолько ригиден, что стремится любой ценой подавить избыточное разнообразие, то тем самым он блокирует потенциал развития системной сложности. Такая блокировка адресована как самим элементам, так и их связям. В этом случае система уподобляется организму с узко специализированными функциональными органами, который оказывается совершенно беспомощен перед лицом неожиданных изменений среды. Иное дело, что локальная разблокировка может проходить явочным порядком, т.е. без санкции центра. Таким образом, например, происходила рецепция западного культурного материала в СССР особенно в его последний период. Когда волна усложнения (во всех значениях) докатилась до центра, система умерла. Если же центр более гибок и, сохраняя свой уровень системной сложности, готов усложнить внутрисистемные связи за счет включения в них материала периферийного разнообразия, то общий диапазон адаптационных возможностей системы повышается. Нередко тенденция к усложнению связей, вопреки природе структурных элементов и «воле» центра, захватывает и диссистемный материал, что инициирует развитие новой, альтернативной системы в нутрии материнской. Такое развитие, однако, далеко не всегда завершается полным вызреванием первой. Альтернативная система может «застрять» на любом уровне развития, что порождает, если речь идет об обществе, феномен раскола. Примерами последнего в современном мире могут служить, по С. Хантингтону, Россия [17] и Турция. Латентный же раскол, вызванный разрывом между уровнем сложности системообразующих элементов и сложностью связей, включающих в себя также и диссистемный материал, наблюдается во многих обществах, и не только моноцентрических.
В структурах полицентрического типа структурная сложность центров, как правило, уступает сложности связей. Полицентричность здесь образуется за счет десинкретизации и дезинтеграции центра и дифференцированного распределения его функций по нескольким и более «филиалам». При этом каждый из них, сохраняя реликтовую синкретическую универсальность, способен при определенных обстоятельствах воспроизвести общесистемное целое. Такими обстоятельствами, если говорить об исторических судьбах ЛКС, могли быть перемещения из одного субцентра в другой сакральных персон, символов, институтов, изменение торговых или паломнических путей, военное и политическое соперничество, внешние вторжения и др. Функциональная взаимозаменяемость центров, отражая диффузность культурно-генетического субстрата ЛКС, присуща структурам/системам, в которых несущим каркасом выступают именно внутренние связи с присущим им уровнем и характером сложности. Такие структуры гибки, подвижны, открыты к рецепции инородного материала. Так, в полицентричной Западной Европе Темных веков одной из ключевых форм культурно-смысловых связей, сохраняющих относительную сложность, была античная традиция образования, через которую, главным образом, и начала осуществляться рецепция античного культурного гумуса. При этом сложность связей устойчиво опережали сложность структурных элементов культуры, по меньшей мере, до эпохи городской революции и наступления зрелого Средневековья.
Как и всякий другой тип структурообразования, полицентризм имеет и свои слабые стороны. Резкое упрощение или разрыв стандартных межэлементных связей делает структуру/cистему аморфной, рыхлой, неустойчивой. В предельном случае, она превращается в агрегат или конгломерат дезинтегрировнных или слабо и неустойчиво связанных меж собой элементов. Такую картину можно наблюдать, например, при распаде вождеств, как простых, так и сложных, а также любого рода временно интегрированных полицентричных сообществ, объединенных некими общими культурными кодами: от локальных групп кочевых скотоводов до вольных городов средневековья и от этнокультурных анклавов в мегаполисах до фирм и корпораций в современной мире рынка и бизнеса.
В сетевом типе структурообразования не столько элементы образуют меж собой связи, а скорее сами они (элементы) представляют собой сгустки связей [18]. Здесь «перекачивание» уровня сложности из элементов в связи достигает максимума. Сетевые структуры с дрейфующими центрами или вовсе без таковых наиболее гибки, подвижны, лабильны. Сложность в таких структурах/системах не кристаллизуется в дискурсе Должного и его сверхценных культурных формах и символах. Такое структурообразование становится возможным за счет использования синкретической сложности элементов: ситуационно принимая на себя те или иные функции, они сохраняют свою синкретическую неспециализированность. Специализация, разумеется, есть и нередко весьма узкая и глубокая. Но она в целом обратима, и это в корне отличает сетевые структуры от центрических, где переход синкретической сложности в комплексную выступает генеральной тенденцией. Тенденция эта побеждает и становится необратимой, когда дифференцирующее комплексное усложнение проникает внутрь самих элементов структуры, меняя тем самым их онтологию.
Поясню их на примере. Чем проще организована ментальная сфера индивидуума как единичного элемента социальной структуры, тем легче культуре удается его специализировать, «заточить» под выполнение определенных функций. Изначальным «чистым листом» здесь выступает «однослойная», цельно-синкретичная и абстрактно-универсальная ментальность архаика. Надстраивание над ней второго структурного слоя ментальности в эпоху дуалистической революции, кардинально усложнило онтологию всей ментальной сферы как целого. Открылись одновременно и новые горизонты самореализации индивидуума в культуре и, в то ж время, развернулась новая номенклатура специализаций, основанных на парадигме служения. Последняя явилась синкретической психологемой, определяющей идентичность постосевого человека. В ее сложностной оболочке развивалось пространство паллиативов между свободными альтернативами самореализации и жестким детерминизмом специализаций. На одном полюсе был, условно говоря, Конфуций, понимающий, что «благородный муж не подобен вещи», но служащий идее «исправления имен» и возврата к правильному порядку вещей древних династий. На другом полюсе – рядовой солдат бесконечной войны с Мировым Злом (Хаосом, Врагом и т.п.), служащий соответствующей инстанции, репрезентирующей Должное и Благо: царю, родине, городу, богу и т.п. Причем, служение осуществляется не по собственному выбору, а в соответствии с навязанной культурой специализацией.
При таком положении дел комплексная (дифференцированная) сложность ментальности индивидуума как элемента социокультурной структуры/системы опережает, особенно в центрических образованиях, усложнение системы связей. Увеличение разрыва порождает напряжение в системе, ответом на который выступает ее кардинальная трансформация. Ментальность как структурный элемент системы претерпевает вторичное упрощение и своего рода «неосинкретизацию», а «точки роста» перемещаются в систему межэлементных связей. Исторически такое состояние наблюдается, например, в Европе на стыке поздней античности и Темных веков. Но поскольку рост числа и усложнение общесистемных и функциональных связей не может не коррелировать с онтологией элементов, и она тоже усложняется. Ментальная структура становится трехслойной [19]. Этот шаг к «новому универсализму» порождает ментальный и социокультурный тип новоевропейской личности и инициирует полемику между парадигмой служения и становящимся принципом свободной самореализации. Социологическим планом этой полемики явился контрапункт свободной творческой личности и «одномерного» массового человека.
Глобальный культурно-антропологический кризис современности обнаружил исчерпанность эволюционного развития в прежних диспозициях сложности элементов и связей, и тенденция к отказу от центрических структур в пользу сетевых определенно устремлена к новому универсализму. Уже явился новый культурно-антропологический тип, не идентифицирующий себя «намертво» с теми или иными социокультцрными функциями или парадигмой служения, а легко дрейфующий по этим функциям, как бы пропускающих их сквозь себя. Такой тип неосинкретической сложности ментальности имеет огромный потенциал «валентности» – способности осваивать и комбинировать функциональные специализации, не «прирастая» к ним и не сливаясь с ними, утрачивая индивидуальность. Дрейф в сложностном пространстве системных связей в значительной степени снимает напряжение между принципом свободы и принципом специализации, или, по меньшей мере, находит между ними своеобразный компромисс, возможный, напомню, лишь при условии неосинкретического характера ментальной сложности. Десинкретизация ментальности и дифференцирование ее функций делает актуальной выделение и усиление центра [20] как инструмента вторичной интеграции обособившихся форм и связей. Это происходило в истории неоднократно, но сейчас, похоже, главные тенденции направлены в противоположную сторону.
* * *
[1] Castelliani B., Yafferty F. Sociology and Complexity. A new field inquiry. Berlin: Springer, 2009. P. 6.
[2] Термин этот на первый взгляд может показаться чуть ли не прямой тавтологией, особенно если вспомнить английский перевод слова сложность. Однако более подходящего термина найти не могу.
[3] Хачатурян В.М. «Вторая жизнь» архаики: архаизующие тенденции в цивилизационном процессе. М.: Academia, 2009.
[4] Российский кинозритель без труда вспомнит в этой связи чатланско-пацакский язык героев фильма «Кин-дза-дза».
[5] Напомню в этой связи о симметрии образов, стадиально предшествующей в сознании симметрии знаков, по П. Рикеру.
[6] Такого рода беспорядочная ассоциативность наблюдается и у современных людей, если их сознание «сбить» с навязанных культурой рутинных путей ассоциирования и смыслообразования.
[7] Исследователи мифов обычно связывают это со значениями земли, земных вод, подземного мира, преисподней.
[8] Разумеется, в нижнем палеолите культурные формы были еще более синкретичны, но культурогенез в ту эпоху еще обретался в оболочке биоэволюции, и об имманентной диалектике его разворачивания еще говорить не приходится. Поэтому протокультура нижнего палеолита выводится здесь за скобки.
[9] Нуклеация в социальных системах вовсе не обязательно принимает формы политической централизации. Системный центр ЛКС – явление более комплексное и многоплановое чем просто центр политической (государственной) власти, хотя последний часто выступает мифо-идеологической репрезентацией первого.
[10] Не случайно, биоэволюционная концепция, предполагающая автономное действие естественного отбора на отдельные функциональные органы, оказалась несостоятельной.
[11] К примеру, утрата аборигенами Австралии таких усложняющих специализаций, как лук и стрелы, или гипотетическое возвратное движение в социальной организации от меньшей к большей эгалитарности, вполне могло осуществляться в рамках неизменного уровня системной сложности.
[12] Коротаев А.В. Социальная эволюция. Факторы. Закономерности. Тенденции. М.: Наука, Восточная литература, 2003. С. 53-54.
[13] Там же. С. 53
[14] Если говорить о политогенезе, здесь моноцентрический тип системы вовсе не обязательно предполагает жесткую монополитийность. Напротив, большинство древних моноцентрических обществ были скорее мультиполитийны.
[15] К примеру, Т.Д. Скрынникова предполагает, что центр Монгольской империи представлял собой не государство, а суперсложное вождество, тогда как государственные структуры концентрировались на периферии этого мультиполитийного образования. Скрынникова Т.Д. Монгольское кочевое общество периода империи // Альтернативные пути к цивилизации / Ред. Н.Н. Крадин, А.В. Коротаев, Д.М. Бондаренко, В.А. Лынша. М.: Логос, 2000. С. 344-355.
[16] Сама возможность такого накопления обусловлена адаптивно-специализирующей доминантой развития периферийных зон системы.
[17] Раскол в российском обществе, без всяких, впрочем, соотнесений с Хантингтоном, исследовал А.С. Ахиезер.
[18] Здесь вспоминается страшноватая сентенция Маркса о человеке как совокупности общественных отношений.
[19] подробнее см.: Пелипенко А.А. Дуалистическая революция и смыслогенез в истории. М.: УРСС, 2010.
[20] Эти процессы, как правило, сопровождаются сакрализацией стремления психологически привязаться к метафизически понимаемому онтологизму.
[21] Назаретян А.П. Векторы исторической эволюции // Общественные науки и современность. 1999. № 2. С. 112-126 и др.
© Пелипенко А.А., 2015
Статья поступила в редакцию 11 января 2015 г.
Пелипенко Андрей Анатольевич,
доктор философских наук, профессор,
главный научный сотрудник
научно-исследовательского центра
Московского психолого-социального университета.
e-mail: demoped@yandex.ru

ISSN 2311-3723
Учредитель:
ООО Издательство «Согласие»
Издатель:
Научная ассоциация
исследователей культуры
№ государственной
регистрации ЭЛ № ФС 77 – 56414 от 11.12.2013
Журнал индексируется:
Выходит 4 раза в год только в электронном виде
Номер готовили:
Главный редактор
А.Я. Флиер
Шеф-редактор
Т.В. Глазкова
Руководитель IT-центра
А.В. Лукьянов
Наш баннер:

Наш e-mail:
cultschool@gmail.com
НАШИ ПАРТНЁРЫ:
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Культуру культуры» обязательна.
© Научная ассоциация исследователей культуры, 2014-2024







