НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Научное рецензируемое периодическое электронное издание
Выходит с 2014 г.

Гипотезы:
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Э.А. Орлова. Антропологические основания научного познания
Дискуссии:
В ПОИСКЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (рубрика А.Я. Флиера)
А.В. Костина, А.Я. Флиер. Тернарная функциональная модель культуры (продолжение)
Н.А. Хренов. Русская культура рубежа XIX–XX вв.: гностический «ренессанс» в контексте символизма (продолжение)
В.М. Розин. Некоторые особенности современного искусства
В.И. Ионесов. Память вещи в образах и сюжетах культурной интроспекции
Аналитика:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
А.Я. Флиер. Социально-организационные функции культуры
М.И. Козьякова. Античный космос и его эволюция: ритуал, зрелище, развлечение
Н.А. Хренов. Спустя столетие: трагический опыт советской культуры (продолжение)
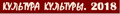

Н.А. Хренов
Смех и культура: от ментальности к жанру
(окончание)
Аннотация. Статья посвящена исторической эволюции смеховых образов в культуре и, прежде всего, в художественной литературе. Внимание автора сосредоточено на интерпретации этих смеховых образов в современной культуре. Рассматриваются также национальные особенности смеховой культуры, в частности традиции юмора в русской литературе.
Ключевые слова. Культура, смех, смеховая культура, художественная литература, традиции юмора.
3. Принцип «остранения» В. Шкловского как идея деканонизации А. Бергсона.
Взрыв эксцентризма в футуризме
С рубежа ХIХ – ХХ веков возникает новая ситуация. Как утверждают представители «формальной» школы, история искусства представляет маятниковое раскачивание от канонизации каких-то сложившихся форм к их деканонизации. Если в Новое время развертывается процесс канонизации форм, соответствующих культуре того типа, которую П. Сорокин обозначил культурой чувственного типа, то к рубежу ХIХ–ХХ веков становилось понятным, что эти формы переживают кризис. В искусстве начинается процесс разрушения и отрицания этих форм, что становится также основой их пародирования, а, следовательно, превращения их в предмет смеха. Так возникает почва для возрождения смеховой стихии, но той смеховой стихии, что характерна для Нового времени.
Ведь просветители наделили искусство, в том числе, и комический жанр разнообразными социальными функциями, сделали его средством социализации и воспитания человека, способного существовать в обществах, возникающих на основе разума. Индустриальные общества, возводимые средним классом, представлялись именно такими. Смех стал по отношению к созидательным проектам функциональным. Он стал одномерным. Но раз разрушался весь характерный для Нового времени эстетический канон, то стало очевидным, что этот возникший в это время функциональный смех тоже лишился своих эстетических качеств. Так возникла почва для реабилитации смеховой стихии, выходящей за границы канона, что утверждался в Новое время. Возникла возможность реабилитировать формы смеха, не укладывающиеся в эстетические нормы Нового времени.
В своей известной статье «Искусство как прием» В. Шкловский писал, что «автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны» [103]. Все это приводит к тому, что окружающих нас вещей мы не видим. Следовательно, чтобы их увидеть, необходимо вывести их из автоматизма. В связи с такой постановкой вопроса возникает следующий вопрос – кто из исследователей – отечественных и зарубежных воздействовал на М. Бахтина и, скажем, на В. Шкловского как одного из лидеров «формальной» школы, хотя, кажется, что отношение к смеху М. Бахтина и В. Шкловского не совпадают. Не случайно М. Бахтин был критиком формализма.
Как известно, «формальная» школа превратила в теорию опыт футуризма. Эта разновидность смеха, т.е. футуристического понимания комического обычно обозначается как эксцентризм. Что же касается эксцентризма, то его смысл заключается в том, чтобы разрушить привычное и автоматическое восприятие того, что часто повторяется. А то, что часто повторяется, уже не воспринимается. Его перестаешь замечать. Значит, чтобы знакомую вещь заметили и увидели, необходимо так воспроизвести знакомое, приевшееся и незамечаемое, чтобы его увидели и ощутили вновь. В качестве такого привлекающего внимание средства и существует смех как одно из проявлений того, что В. Шкловский называет остранением.
Остранение – это изъятие предмета или явления из привычного контекста, привычных связей его с другими предметами и явлениями. Будучи помещенным в другой контекст, такой предмет начинает демонстрировать новые связи и, следовательно, новые, не предполагаемые смыслы. Раз в результате всех предпринятых манипуляций предмет или явление не только начинают видеть, но и эмоционально переживать (например, в форме смеха), значит можно констатировать акт деканонизации, т.е. выведения предмета или явления из автоматизма.
Вызвавшие к жизни принцип остранения сами формалисты не претендовали на его универсальность, скромно обозначая его приемом. Тем не менее, позднее это понятие приобретает универсальный смысл и применяется по отношению не только к литературе, на что и претендовали формалисты, но и по отношению к искусству в целом. Так, публикуя фундаментальную монографию о русском символизме, О. Ханзен-Леве склонен принципу остранения придавать универсальный смысл. Как утверждает О. Ханзен – Леве, когда В. Шкловский вводил в науку о литературе понятие остранения как художественный прием, он тем самым одновременно с этим формулировал также центральный эстетический и философский принцип современного искусства и его теории [104].
Но вот ведь что интересно. Это понятие не явилось выведенным лишь из опыта современного искусства. Его пришлось иллюстрировать приемами из разных эпох и культур. Казалось бы, формалисты – это альтернативная по отношению к М. Бахтину теория. Однако О. Ханзен-Леве пишет: «Не случайно формалистская теория остранения берет начало от анализа карнавальных жанров загадки, анекдота, каламбура, игры слов, пародии, передразнивания и стилизации, то есть всех тех жанров, в которых изначально идеологически ориентированный смех возведен в статус конструктивного принципа» [105].
Но раз остранение как центральный прием обнаружено формалистами в футуризме и выводится из карнавальных жанров, то теория формализма смыкается с теорией М. Бахтина. Судя по всему, и у В. Шкловского, и у М. Бахтина есть общий предшественник. Его следует искать в философии. Очевидно, что впервые идея деканонизации пришла в голову представителям не формальной школы, а философии жизни и, в частности, уже упоминаемому представителю этой школы – А. Бергсону. Трудно назвать философа, который так же сильно, как А. Бергсон, повлиял на искусство ХХ века. При всем том, у него нет ни одного специально посвященного искусству сочинения. Правда, кроме одного. Это сочинение посвящено природе комического.
Комическое философ вовсе не относил к специфическим феноменам искусства. Для него смех является выражением социального инстинкта, противостоящего отклонению от социальной нормы. По А. Бергсону получается, что смех – это исключительно общественное, а отнюдь не эстетическое явление. Смех осуществляет жесткую функцию социализации. Это способ наказания за отклонение от той нормы, которая организует, дисциплинирует и контролирует общество. Все, кто от такой нормы отклоняется, заслуживают осуждения и наказания. Такую функцию осуждения и наказания осуществляет именно смех. «Смех, – пишет А. Бергсон, – прежде всего, – исправление. Способный унижать, он должен всегда производить на того, кто является его предметом, тяжелое впечатление. Общество мстит посредством смеха за те вольности, которые позволяют себе по отношению к нему. Смех не достигал бы цели, если бы носил на себе печать симпатии или доброжелательства» [106].
По А. Бергсону, функция смеха – устрашать, унижая. Излагая концепцию смеха А. Бергсона, З. Фрейд констатирует: с помощью смеха человека можно сделать смешным, можно вызвать к нему презрение, «чтобы лишить его претензии на уважение и авторитет» [107]. Хотя А. Бергсон – философ, в предлагаемой формуле смеха он предстает социологом. Он ставит вопрос о социальных функциях смеха. При этом, кажется, что он исходит лишь из интересов общества, а не личности. Собственно, такая позиция могла оформиться лишь в Новое время. Отношение к смеху характеризует А. Бергсона как представителя эпохи модерна, каким он не является. Это странно, поскольку, представляя «философию жизни», он должен был бы многое заимствовать от романтизма, поскольку считается, что это философское направление продолжает традицию романтизма.
Иначе говоря, А. Бергсон вроде бы должен противостоять просветительской традиции. Собственно, именно так прочитывали мысль А. Бергсона в России. Например, ссылаясь на А. Бергсона, В. Базаров противопоставляет смех западный, а, еще конкретней, французский, русскому смеху. Такая постановка вопроса уже относит к культурологическому аспекту смеха, т.е. выявлению специфики смеховой стихии в каждой культуре. Такие исследования в последнее время появляются [108]. Французская пословица гласит: «Смех убивает». Эта пословица напоминает фразу, произнесенную Хлестаковым из первоначального варианта комедии Гоголя «Ревизор»: «Комедии? А что такое комедии? Комедия – это все равно, что артиллерия» [109].
Конечно, убивает и русский смех, но, в противоположность французскому, он убивает не того, над кем смеются, а того, кто смеется. «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!» – этот гоголевский афоризм и доныне остается наилучшим переводом на русский язык и русские нравы французского «le ridicule tue». В. Базаров признает: не всегда убивает наповал и французский смех, – «особенно такого крупного зверя, как политический режим; но он всегда наносит смертельные раны, когда сопровождается сознанием, что смешное, поскольку оно смешно, внутренне мертво, лишено жизненной силы и, если может еще держаться некоторое время, то только инерцией внешнего принуждения» [110].
А. Бергсон даже утверждает, что то, что способно спровоцировать смех, оживает лишь в том случае, если человек реагирует как социальный индивид, а не как одиночка. Кстати сказать, возвращая из темной архаики формы карнавального смеха, М. Бахтин также обнаруживает и специфическое видение толпы, совсем не то, к которому мы, озабоченные распространением массовой культуры, привыкли, а именно, к тому, какое нам знакомо по работам Г. Лебона и Х. Ортеги-и-Гассета, подчеркивающими отрицательные аспекты толпы и массы. Так, опираясь на высказывание наблюдавшего древний амфитеатр в Вероне Гёте об особом самоощущении собравшейся в этом амфитеатре массы, М. Бахтин пишет, что на площади, в ситуации карнавального контакта индивид, ощущает себя частью одного массового народного тела. «В этом целом индивидуальное тело до известной степени, – пишет он, – перестает быть самим собой: можно как бы обмениваться друг с другом телами, обновляться (переодевания, маскировки). В то же время народ ощущает свое конкретное чувственное материально-телесное единство и общность» [111].
Однако здесь возникает и еще один уровень рассмотрения, когда под массой подразумевается коллективное начало, соотносимое с культурой в целом. То, что смешно в одной социальной группе или субкультуре, не смешно в других. То, что вызывает смех в одной культуре, не вызывает в других. По мысли А. Бергсона, в общественном комплексе смеха эстетическое начало присутствует, определяющим не является. «Смех, – пишет А. Бергсон, – стало быть, не относится к области чистой эстетики, поскольку он преследует (бессознательно и в большинстве случаев нарушая требование морали) полезную цель общего совершенствования» [112].
Типичным образцом отклоняющейся от нормы социальности является герой, представляющий другую культуру. Принцип остранения возникает на основе восприятия какой-то культуры с точки зрения другой культуры, т.е. с точки зрения носителя другой культуры, чужестранца. Так, в диалоге Лукиана «Анархарсис» герой – скиф, незнакомый с греческой культурой, описывает гимнастические упражнения греков, которые кажутся ему необычайно странными и абсурдными, а потому и вызывают смех. Так, классическим образцом остраняющего описания культурно-критической и просветительской направленности О. Ханзен-Леве считает «Персидские письма» Монтескье, в которых европейский образ жизни описывается с точки зрения чужой, экзотической с точки зрения западного человека культуры Востока. Нечто подобное воспроизводит сюжет фильма Э. Рязанова «Человек ниоткуда».
С другой стороны, у А. Бергсона концепция смеха не совсем соответствует установкам модерна. Она не соответствует в той части его сочинения, где он все-таки предстает последователем романтизма, а именно, в той части, где речь идет о связях человека и природы, которые в процессе становления индустриального общества разрушаются, что и оказывается в основе нового понимания смеха. Вот тут-то и возникает подхваченная В. Шкловским у А. Бергсона оппозиция автоматизации и деавтоматизации. В природе комического многое решает оппозиция культуры и природы, точнее, цивилизации и природы. Человек – дитя природы. Но постепенно он становится функциональным существом, чем-то вроде машины. Это машинное может проявляться в позах, движениях, походке, поведении, в речи.
Вот это механическое и вызывает в живом человеке смех. «Комическое, – пишет А. Бергсон, – это та сторона личности, которой она походит на вещь, те человеческие поступки, которые своей совершенно специфической косностью походит на настоящий механизм, на нечто автоматическое – словом, на движение безжизненное. Он выражает, следовательно, известное индивидуальное или коллективное несовершенство, требующее немедленного направления. Смех и есть направление. Смех – это известный общественный жест, которым подчеркивается и пресекается особая рассеянность людей и событий» [113].
В реальности человек все дальше отходит от природы. Это становится особенно очевидным в индустриальном обществе, в котором все воспринимается и оценивается с точки зрения пользы. Восприятие человеком мира становится все больше восприятием с точки зрения предпринимательского сознания, а, следовательно, оно рационализируется. Именно поэтому мы перестаем видеть предметы и явления такими, какими они на самом деле являются. Собственно, чтобы вернуть чувственный и человеческий смысл предметов и явлений, необходимо их освободить от функциональных и утилитарных значений, вообще, освободиться от утилитарного на них взгляда. Здесь-то А. Бергсону как раз и требуется эстетическая точка зрения на мир, а она, как утверждали еще Кант и Шиллер, исключает всякий утилитаризм, всякий интерес и реабилитирует в отношениях с миром игровое начало.
Следовательно, то, что принято называть «остранением», является ничем иным, кроме как проявлением игрового инстинкта в искусстве. Но, впрочем, как свидетельствует О. Ханзен-Леве, не только в искусстве. «Не только в начале философии, – пишет О. Ханзен-Леве, – но и в начале эстетического миросозерцания находится любопытство, поначалу игровое смещение привычной точки зрения, переход на воображаемую, утопическую, теоретическую позицию, с которой вещи и их отношения выглядят странно, по-новому и удивительно. Это любопытное изумление (как первичный рефлекс) становится методическим принципом не ранее, чем сможет освободить в сознании область, которая, давая всеобъемлющую перспективу, теоретический подход, изымает процессы восприятии и мышления из их конвенционального прагматического контекста и рассматривает как имманентный феномен» [114].
Но что как не искусство способно возвращать человека в игровую стихию, освобождать его от утилитарной и функциональной установки. Возвращая к игре, искусство возвращает к природе. Освобождаясь от давления утилитаризма и функционализма, человек оказывается способным видеть не то, что необходимо видеть, а собственную проекцию, точнее, если вспоминать А. Шопенгауэра, нечто, производное от своей воли. В конечном счете, такое смещение происходит в результате давления на человека цивилизации, требующей от него адаптации. Но эта адаптация и означает утрату созерцательности, стираемой установкой, в соответствии с которой все определяет установка, связанная с интересом, пользой, утилитарным подходом к миру.
Получается, что в своих выводах А. Бергсон сближается с А. Шопенгауэром, которого трудно упрекнуть в том, что он использует социологический подход. Но если в его философской концепции отсутствует социология, то это еще не означает, что его концепцию нельзя не интерпретировать в социологическом ключе. Вот для этого и существует в искусстве прием остранения. По сути, понятие «остранение» В. Шкловского – это заимствованное у А. Бергсона и переформулированное понятие. Оно означает то, что в человеке и обществе противостоит автоматизации и предстает деавтоматизацией. «Это отклонение жизни в сторону механического, – пишет А. Бергсон, – и есть в данном случае истинная причина смеха» [115].
Как бы там ни было, но влияние А. Бергсона на В. Шкловского очевидно. Этого вопроса о влиянии на В. Шкловского западных мыслителей и теоретиков не обходит и О. Ханзен-Леве. Он констатирует способность В. Шкловского «быстро воспринимать чужие идеи, включать их в соответствующую актуальную методологическую ситуацию (прежде всего терминологически) и формулировать с такими акцентами, что они даже их авторам представали в новой обостренной последовательности более ясными и более применимыми в научной и полемической коммуникации» [116].
Касается О. Ханзен-Леве и непосредственного влияния А. Бергсона на концепцию остранения у В. Шкловского. «Формалистический имманентизм и гедонизм ранней фазы, – пишет О. Ханзен-Леве, – несомненно опирался на гедонистически-виталистические предпосылки, которые ставят перед принципиально «свободным от целесообразности» искусством задачу постоянной сенсибилизации и творческого обновления человека. «Цель» или «самоцельность» деавтоматизированного восприятия заключается в интенсификации «elan vital» путем освобождения непосредственного мироощущения, «ощущения вещей» благодаря воспринимающей силе искусства… Первично-конституирующие приемы остранения и эффекты остранения ставят под вопрос не только аффирмативные структуры мышления, но и структуры поведения, они высвобождают человека от состояния отчужденности и витального оцепенения, которое рассматривается как следствие автоматизации восприятия, окаменения чувствительности. Это расширения принципа деавтоматизации на экзистенциальную сферу было предначертано как витализмом художественного авангарда того времени, так и философским витализмом, с которым формалисты были достаточно хорошо знакомы» [117].
Цитируя В. Шкловского, в частности, мысль о том, что автоматизация переживания мира пожирает вещи, одежду, мебель, женщину и ужасы войны, О. Ханзен-Леве вспоминает А. Бергсона и, в частности, его суждение о смехе. В соответствии с его утверждением, философия смеха А. Бергсона почти дословно совпадает с витализмом формализма с его призывом вернуть утраченное непосредственное отношение к вещам. «Это восстановление непосредственности возможно, однако, – пишет О. Ханзен-Леве, – только через антипрагматическое новое видение, которое – и здесь Бергсон примечательным образом употребляет понятие, позднее дословно проявляющееся у Шкловского, – направлено против «практического узнавания», против автоматизированного классифицирующего зрения «по этикеткам» [118]. Так, как мы убеждаемся, созданная формалистами, столь авторитетная в искусствоведческой среде и ставшая ключом к пониманию эксцентризма концепция смеха имеет философскую основу.
4. Смеховая стихия в русском варианте. Амбивалентность русского смеха.
Вариант Н. Гоголя, ставший традицией
Конечно, понимание комического у А. Бергсона не является единственной и универсальной отмычкой для понимания природы смеха. Как уже отмечалось, от той разновидности смеха, которая характерна для эпохи модерна, ХХ век заметно отходит, возвращая к эпохам, предшествующим собственно истории искусства. В этом плане заметным явлением оказывается новое открытие комического как оборотной стороны если и не трагического, то драматического. Удивительно, но выявленная Ф. Ницше тенденция – улавливать за веселым, жизнерадостным и праздничным трагическое начало, что его занимало в Древней Греции, вполне приемлема и для понимания смеховой стихии, специфичной для русской культуры.
Такая же амбивалентность – присутствие в трагическом комического и в комическом трагического, оказывается, характерна и для ментальности русского человека. Так, решившийся погрузиться в психологию русского смеха философ начала ХХ века В. Базаров свой этюд о комическом начинает почти так же, как начал рассуждать об этой амбивалентности применительно к грекам в своей ранней работе о происхождении трагедии Ф. Ницше. Задавшись вопросом, почему мы, русские, не умеют смеяться, он тут же саму постановку такого вопроса отрицает. Ведь, начиная с Гоголя, русские только то и делают, что подвергают себя смеху. Вроде бы все, действительно, так. «То есть, как это “мы не умеем смеяться”?» – удивится читатель. Чего другого, а смеха нам, кажется, не занимать стать. С тех пор, как начался так называемый «гегелевский период» нашей литературы и жизни, мы только и делаем, что смеемся, – смеемся, зачастую до колик, до слез, по самым разнообразным поводам и в самых различных смыслах. Поистине область смеха нигде не разработана столь основательно и всесторонне, как в нашей стране» [119].
Этим суждением В. Базаров доказывает, что в России смеха достаточно. И это уже не только некое ментальное свойство русского человека, но и устойчивый жанр искусства, что, конечно, демонстрирует в «Ревизоре» Гоголь. Однако уже в «Ревизоре» стало очевидным, что смех-то здесь не является чистым и самостоятельным по отношению к другим эмоциям. Погружаясь в психологию комического, как его понимают в России, В. Базаров тоже приходит к выводу, что комическое здесь никогда не присутствует в чистом виде. Вот почему, читая Пушкину «Мертвые души», Гоголь не мог дождаться той реакции, которая у Пушкина всегда возникала, когда он читал ему предыдущие сочинения и когда поэт смеялся. Более того, после чтения гоголевской поэмы помрачневший поэт именно тогда и произнес фразу: «Боже, как грустна наша Россия». Собственно, эта фраза уже является для понимания исключительности русского смеха весьма показательной.
Но русский смех кажется исключительным до тех пор, пока мы не имеем сведений о предыстории истории искусства, когда смех был элементом мифа и когда смеха отдельно от страха и вообще трагического не существовало. Гоголь, который прорывается к большому опыту человечества, как раз и реабилитирует эту амбивалентность смеха. Но вообще-то, вспоминая фразу Пушкина, сказанную по поводу «Мертвых душ», Л. Шестов утверждает, что Пушкин все же не разгадал смысла поэмы. «Заколдованным» или «завороженным» царством для Гоголя была не только Россия. «Весь мир, – пишет Л. Шестов, – представился ему за завороженным царством; все люди – великие и малые – безвольными, безжизненными лунатиками, покорно и автоматически выполняющими извне внушенные им приказания. Едят, пьют, гадят, размножаются, произносят отяжелевшими языками бессмысленные слова. Нигде ни следа «свободной воли», ни одной искры сознания, никакой потребности пробудиться от вековечного сна» [120].
Вот и явился вместе со смехом Гоголя второй лик русского человека – его слезы. Не случайно на протяжении всего ХIХ века Гоголь не был понят. Вот констатация, извлеченная из журнала «Театр и искусство». «Вряд ли найдется теперь среди русской публики хоть один человек, который не считал бы «Ревизора» Гоголя классическим шедевром нашей драматической литературы. Однако прошло еще так немного времени с тех пор, когда «Ревизор» был впервые поставлен, когда он вызвал против себя общее неудовольствие и когда вряд ли можно было предсказать, что он сумеет до нашего времени удержаться в репертуаре. Но ведь не изменился же «Ревизор» за это время; изменился не он, изменилось общество, изменилась публика, и «Ревизор» в наше время занимает одно из почетнейших мест в классическом репертуаре» [121].
Прорываясь в пространство большого опыта человечества и разгадывая непонимание образов Рабле в Новое время, М. Бахтин мимо непонимания, а, точнее, неадекватного восприятия образов Гоголя не мог пройти. Во-первых, он констатирует: «Положительный», «светлый», «высокий» смех Гоголя, выросший на почве народной смеховой культуры, – пишет М. Бахтин, – не был понят (во многом он не понят и до сих пор). Этот смех, несовместимый со смехом сатирика, и определяет главное в творчестве Гоголя» [122]. А не понят был классик своим веком потому, что предшественников он имел в далекой истории, когда галактика Гутенберга еще не была вызвана к жизни и письменность всей культуры еще не исчерпывала. Иначе говоря, в русской культуре он первым возвращал к нелитературным ее пластам. Его открытия были поняты и оценены лишь в ХХ веке, когда они делались заново, но уже не одинокими гениями, единомышленниками классика, а практически всем искусством.
Впрочем, новое, более адекватное открытие образов Гоголя было осознано и прокомментировано, как мы уже показали, еще А. Белым. Нет, совсем не случайно в 20-е годы один из самых авторитетных представителей театрального авангарда обращается к Гоголю. Не случайно художник, ощущающий зов большого опыта человечества, – В. Мейерхольд в 1926 году ставит «Ревизора», ощущая при этом у Гоголя не только смеховое, но и трагедийное начало. Так, вспоминая пушкинскую фразу, сказанную после чтения ему «Мертвых душ», В. Мейерхольд комментирует: «Гоголь брал, как комик, а Пушкин сразу понял, что дело не в комизме, а в чем-то другом» [123]. Вот это другое и пытался выявить в Гоголе режиссер, что, конечно, привело к тому, что был разрушен привычный образ Гоголя, соответствующий скорее водевилю, и в результате появились критики режиссера. Парируя на эти их обвинения, В. Мейерхольд говорит: «… Говорят, что Мейерхольд совершил кощунство потому, что он удалил тот смех, по которому все вдруг так стосковались, и в смехе этом упразднил самого Гоголя. Но о каком смехе идет речь? Если это водевильный, фарсовый, пустой смех, то такого смеха Гоголь никогда не хотел» [124].
Потом, уже ставя в 1928 году «Горе уму», В. Мейерхольд сформулирует: «Комедия, по моему мнению, есть такая же драма, как и то, что обыкновенно называется трагедиею; ее предмет есть представление жизни в противоречии с идеею жизни; ее элемент есть не то невинное остроумие, которое добродушно издевается над всем из одного желания позубоскалить; нет: ее элемент есть этот желчный гумор, это грозное негодование, которое не улыбается шутливо, а хохочет яростно, которое преследует ничтожество и эгоизм не эпиграммами, а сарказмами» [125]. Удивительно, как это прочтение Гоголя соответствует реабилитации смеховой культуры древних эпох, проявляющейся в мифологическом «культурном герое», который, совершая подвиги, не избегал самоосмеяния. А ведь что, как не эта интерпретация Гоголя, извлекающая в комедии на свет трагическую сторону бытия, призвана иллюстрировать прорыв режиссера в большой опыт человечества, который был не чужд и самому Гоголю.
Любопытно, что такой взгляд на жанр комедии, будет ли это комедия Гоголя или Грибоедова, потребовал и особого отношения к актеру, способному объединять трагическую и комическую стихию. Поэтому В. Мейерхольд предлагает присмотреться к опыту актера А. Ленского, убежденного в том, что разделения актеров на трагических и комических не бывает. Настоящий актер не знает отдельно комического и отдельно трагического («В комическом он дает все черты трагического и в трагическом – комическое. Он не хочет знать грубого механического деления на комическое и трагическое» [126]). Для В. Мейерхольда таким типом актера был, например, И. Ильинский [127]. Так, в 1934 году режиссер сообщал, что будет ставить «Бориса Годунова» А. Пушкина и главную роль предполагает дать И. Ильинскому, несмотря на то, что тот к этому времени успел твердо закрепить за собой комическое амплуа.
Любопытно, что в тот момент в русской культуре, когда ментальность целого народа, казалось, нашла, наконец-то, свое оформление в жанре, к чему культура в целом долго шла, это неожиданно спровоцировало сопротивление этому значимому качественному сдвигу. И со стороны кого? Со стороны философа В. Розанова. Понятно, что далеко не все были готовы принять этот гоголевский «регресс» в смеховую стихию. Так, после поверхностно понятого в соответствии с уровнем в ХIХ веке Гоголя трудно не заметить отношение к классику В. Розанова, которое никак нельзя назвать апологетическим. Наоборот, В. Розанов в своем эссе о Гоголе словно подхватывает суждения критика «Автора пьесы» из гоголевского «Театрального разъезда после представления новой комедии», который утверждал, что пьеса Гоголя – «это отвратительная насмешка над Россиею» [128].
В. Розанов обвиняет Гоголя в том, что он дал одностороннее осмысление русской жизни именно с помощью этой амбивалентности – и смешного, и страшного в их тесной связи. По мысли В. Розанова, Гоголь нуждался в том, чтобы рядом стоял гений, который бы придерживался противоположных, а не исключительно мрачных позиций. Такой, более светлый и жизнерадостный период в его творчестве был. По мнению философа, таким светлым гением, благотворно влиявшим на него, был Пушкин, с которым Гоголь обсуждал свои замыслы и, возможно, после замечаний Пушкина их уточнял и изменял. После смерти Пушкина Гоголь потерял равновесие, и мрачное начало его дарования возобладало, проявившись в неверном, однобоком и даже вредном видении русской жизни. Вредным потому, что внедряло в сознание русских критическое отношение к жизни.
По мнению В. Розанова, видение Гоголя нанесло всей русской культуре вред, извратило подлинное и глубокое видение русской действительности. Затем оно, это видение внедрилось в сознание миллионов, и в соответствии с ним стала восприниматься вся русская жизнь. «Великие люди своим психическим складом живут, – пишет он, – разлагаясь в психический склад миллионов людей, из которого родятся потом с необходимостью и осязаемые факты» [129]. Гений Гоголя истребил творческую жажду жизни и заразил русского человека неверием и пессимизмом. «Успокоение – вот то, в чем мы всего более нуждаемся, – пишет В. Розанов. – Нет ясности в нашем сознании, нет естественности в движении нашего чувства, нет простоты в нашем отношении к действительности. Мы возбуждены, встревожены, и это возбуждение, эта тревога сказываются конвульсивностью наших действий и беспорядочностью мыслей. Развитие дальнейшее, при таком состоянии, может подняться на очень большую высоту, но оно никогда не будет при этом развитием нормальным, здоровым. На пути к этому естественному развитию, не столь ускоренному, но непременно имеющему подняться на большую высоту, действительно, стоит Гоголь. Он стоит на пути к нему не столько своею иронией, отсутствием доверия и уважения к человеку, сколько всем складом своего гения, который стал складом нашей души и нашей истории. Его воображение, не так относящееся к действительности, не так относящееся и к мечте, растлило наши души и разорвало жизнь, исполнив то и другое глубочайшего страдания. Неужели мы не должны сознать это, неужели мы настолько испорчены, что живую жизнь начинаем любить менее, чем только отображенную?» [130].
Полемизируя с мыслью В. Розанова о том, что следующая за Гоголем русская литература опровергает видение Гоголем русской жизни, В. Базаров делает следующее суждение. Да, герои последующей русской литературы полны жизни. Но ведь и гоголевские персонажи тоже не лишены жизненной витальности. Однако над всем этим царством русской жизни висит какой-то перманентный рок, который был до Гоголя, продолжает быть при Гоголе и остается после Гоголя, продолжая удушающим образом действовать на русского человека. «Не убита, а заворожена душа гоголевского человека; заказаны ей все пути, отнята у нее творческая мощь воплощения, – пишет философ. – Вот почему такою мертвенностью дышат картины Гоголя во всех тех случаях, когда он рисует мысли и чувства своих героев не изнутри, а в их, так сказать, внешнем обнаружении. И в этом с Гоголем вполне солидарна вся позднейшая литература» [131].
Вот и получается, что комическое в русской культуре – оборотная сторона трагического. Отсюда и термин «трагикомедия», который В. Базаров употребляет применительно к русской жизни. Именно это гоголевское начало присутствует, в том числе, и в пьесах Чехова и, следовательно, что бы не утверждал ранний В. Мейерхольд и как бы он не доказывал, что действие чеховских пьес сиюминутно, ибо, по его мнению, на Чехове прерывается великая театральная традиция, ощущаемая и у Гоголя, и у Лермонтова, Чехов все же эту традицию не прерывает потому, что подхватывает у Гоголя слитность комического и трагического. Но ведь эту слитность В. Мейерхольд как раз и искал в великих культурах прошлого. Бывают, видимо, курьезы и с великими художниками, не замечающими своевременно тех радикальных сдвигов, что происходят в их время и выразителями которого они сами являются.
Впрочем, с В. Мейерхольдом случился удивительный парадокс. К 1935 году, когда режиссер ставит спектакль «33 обморока» (куда вошли три одноактные пьесы Чехова «Юбилей», «Медведь» и «Предложение»), он сам признает преемственность, прослеживаемую от Гоголя до Чехова. Судя по всему, для признания этой преемственности он созрел не сразу. «И вот, когда я приступил к работе над этими водевилями, – признается он, – я все больше находил общего в приемах Чехова и Гоголя, а уж когда я увидел эти вещи на сцене и когда смотрел их вместе со зрителем, то реакции зрительного зала меня убедили в том, что это те же приемы, что и у Гоголя» [132].
Что же такого обнаружил В. Мейерхольд у Чехова, что позволило ему уловить преемственность не только в драматургии отечественного театра, но и вообще в русской культуре? Это то, что сегодня часто употребляют, как «трагикомедия», в которой получило выражение то, что было извлечено из архаики и что помогло сделать очередной шаг в движении культуры – переместить смеховое начало с уровня ментальности как явления социальной психологии народа на уровень истории искусства, т.е. на уровень жанра. «Понятно, что при этом трагикомедия русской жизни, сохраняя все угаданные в ней Гоголем черты, – пишет В. Базаров, – встает перед нами в другом освещении: тот же плен завороженных чувств и мыслей, то же чертово марево заколдованного царства, – но вместо атмосферы жуткого гоголевского смеха мы вдыхаем лирические излияния гибнущих душ, – то грустные и трогательные, то мрачные и отчаянные, всегда одинаково беспросветные, не оставляющие ни малейшей надежды на возрождение. Различны завязки, но все та же роковая развязка, или, лучше сказать, все та же роковая невозможность развязки. Ведь, это же неоспоримый факт, что ни русская жизнь, ни русская литература не знают счастливых, радостных и торжествующих развязок. Заколдованная, обреченная страна!» [133].
Это-то и ощутил В. Мейерхольд, что и определило активизацию трагического начала в постановке гоголевского «Ревизора». Но как в свое время первая постановка «Ревизора» при жизни Гоголя вызвала возмущение публики, так и прочтение «Ревизора» В. Мейерхольдом вызвала шквал негодования. С констатации неприятия мейерхольдовского спектакля начинает свою статью А. Белый. «Два месяца в Москве стоит крик: Мейерхольд нанес оскорбление Гоголю, – пишет А. Белый, – специализировавшись на ломке текста, «народный артист» республики подобрался к Гоголю, чтобы камня на камне не оставить на гоголевском творении; он поступил с особой злобою, точно он с Гоголем сводил счеты; не просто сломал пьесу Гоголя, а около полутора года ломал: со смыслом! Гоголь смеялся здоровым смехом; Мейерхольд убил здоровый смех Гоголя; театр Гоголя столетиями несли «на традициях» щиты театров; Мейерхольд разбил щиты, Гоголь – свалился и раскололся на тысячи кусков!» [134].
В. Базаров также утверждает, что в этом смысле Чехов позднее не противостоит Гоголю. Молодой Чехов еще удивлял и радовал своим чистым смехом, но, повзрослев и попристальнее всмотрелся в жизнь – «и веселая улыбка навсегда сбежала с его губ» [135]. Вот это пугающее ощущал также М. Лермонтов. По мнению философа, этот комплекс невозможно ничем преодолеть – ни аскетизмом, ни развратом, ни святостью, ни преступлением, ни грубой чувственностью («Если отравлен самый источник бытия, то отравлены, обездушены и все его проявления») [136]. И наконец, вывод философа из проанализированной смеховой традиции в России: «Нет у нас ни подлинной комедии, ни подлинной трагедии; но в бесконечно разнообразных воплощениях, – то под комическими масками гоголевских и щедринских карикатур, то под трагическими личинами человеко-богов Достоевского – все так же разыгрывается трагикомедия» [137].
Да, веселые люди в России все же встречаются, но редко. Это единицы. Их все меньше. «Обилие веселых людей, – явление настолько редкое в нашем обществе, что трудно пройти мимо всего равнодушно, – но трудно и разделить чувство ликующих. Ведь никогда еще наша историческая болезнь не проявлялась в таких угрожающих формах, как именно в настоящее время. И если нам, действительно, не суждена еще смерть, если мы, действительно, хотим выздороветь, то первым нашим шагом должно быть, конечно, трезвое познание болезни, а не легкомысленно – игривое ее замазывание» [138]. Что же имеется в виду под этим замазыванием? Может быть, это уже позади? Ведь писал все это В. Базаров применительно к ситуации русской жизни начала ХХ века. Под замазыванием философ подразумевал крики официальных журналистов и публицистов о национальном возрождении России. Это замазывание проявляется и в официальном образе народа, создаваемом теми же публицистами. В соответствии с официальной публицистикой наш народ обладает чертами терпения, жертвенности, твердости и невозмутимости в бедствиях.
Что касается журналистов и публицистов, то их в начале ХХI века в России не меньше. И кричат они все о том же, о чем их предшественники столетие назад кричали в начале ХХ века. «Но особенно много развелось публицистов, щебечущих и чирикающих, которые ни на что вообще не указывают, а просто славословят: весело щебечут о своей любви к отечеству, внушительно чирикая о нашей народной гордости, предают анафеме «клеветников России» – пессимистов, требуют, чтобы все глядели бодро и празднично, чтобы все щебетали и чирикали вместе с ними…» [139]. Но в эту игру играют не только журналисты и публицисты. А что же почтенные политики, политологи, депутаты, парламентеры? Может быть, в этой среде ситуация, которая имела место в начале ХХ века, повторяется. А что же характерно для той ситуации начала ХХ века? «Ведь уже сорок лет тому назад отцы наши смеялись, почитывая Щедрина, – пишет В. Базаров. – Много воды утекло с тех пор, сменились поколения, народилась российская «конституция», – а щедринские персонажи живехоньки; по-прежнему они возглавляют собой нашу общественность; по-прежнему – и даже еще гораздо ярче и колоритнее прежнего – пишут свои циркуляры; с неслыханной в щедринские времена непринужденностью и развязностью разыгрывают свои административные арлекинады. Коллекция «щедринских типов» – и как раз в самом центральном ее пункте – обогатилась новыми фигурами, превосходящими по своей виртуозной нелепости все, что когда-либо издавала фантазия сатирика. Но чем смешнее, тем прочнее; побить рекорд нелепости, изобрести и воплотить в административной практике такой фортель, до которого не додумался еще ни один юморист, – значит, упрочить свое положение, обеспечить свою карьеру. Поэтому наш, если можно так выразиться, общественный смех наполняет весельем и радостью сердца осмеиваемых, болью и стыдом отзывается в сердцах смеющихся» [140].
Собственно, то, что В. Шкловский понимает под автоматизацией, как раз, как нами уже отмечалось, и заимствовано им в концепции А. Бергсона. Но мимо концепции смеха А. Бергсона не прошел и В. Базаров. Нет, не случайно, пытаясь разобраться в смеховом комплексе русских, В. Базаров ссылается на А. Бергсона. Ведь в какой-то степени бергсоновская концепция тоже в гоголевских персонажах позволяет уловить самое главное. «А. Бергсон, давший наиболее глубокий анализ психологии смеха, – пишет В. Базаров, – приходит к выводу, что смешным является для нас только живое, но как раз в тех случаях, когда оно кажется безжизненным, механическим» [141]. Но разве мы не обнаруживаем эту психологию в России – задается вопросом В. Базаров. Психологию омертвения живой жизни. «Но представим себе, – пишет он, – что мы очутились в заколдованном царстве, где чувства и мысли людей утратили силу воплощаться в жизнь, сохраняя, вместе с тем, всю присущую им жажду воплощения. Представим себе далее, что мы бродим в этом заколдованном царстве, не как его случайные посетители, а как коренные обитатели; что мы в самих себе ощущаем роковую оторванность воли от действия, живого желания от мертвого, механического свершения событий. Тогда, разумеется, нам будет не до смеха: сознание безысходной порабощенности нашей собственной жизни, непреодолимого торжества колдовского механизма над нашими бессильными потугами к творчеству тяжелым кошмаром придавит нашу душу, погасит всякий проблеск легкомысленно зародившегося смеха, оледенит ужасом всякую улыбку наивного веселья» [142].
Конечно, поэма Гоголя не случайно имеет название «Мертвые души». На эту сторону его поэмы обращает внимание М. Бахтин [143]. Чичиков разъезжает не только по России, но и стране смерти. Поэтому и присутствует загробный мир в названии. Конечно, это метафора ада, преисподней и смерти. Но только ведь этот ад, преисподняя и смерть даются Гоголем не в их серьезном, религиозном, а в карнавальном, смеховом смысле. Так вот почему типографские рабочие, набирая текст Гоголя, так над ним хохотали. Но время идет, за заморозками следует оттепель, за оттепелью заморозки, а ситуация не изменяется. Она повторяется. Появляясь впервые у Гоголя, амбивалентный смех продолжается у Салтыкова-Щедрина. «Долгое время удручающее действие веселой сатиры Гоголя рассматривалось как отражение той беспросветной общественно-политической атмосферы, которая окутывала собой наш дореформенный быт, – пишет В. Базаров. – Но вот пришли реформы, прозванные «великими», – и после краткой вспышки радостных ожиданий снова сгустилась та же атмосфера. Место гоголевской сатиры заняла щедринская, где нет уже и признаков веселого смеха, но еще явственнее слышатся стоны жертв заколдованного царства, обессиленных и обеспложенных, по рукам и ногам связанных каким-то дьявольским наваждением. Не в могуществе порока и зла и вообще не в силе отрицательных сторон русской жизни, а в бессилии всяких вообще жизненных проявлений, в роковом бездушии, в непреодолимой омертвелости нашего бытия источник того мрачного вдохновения, которым питается русский юмор, начиная с Гоголя и кончая Щедриным» [144].
Все это сказано до революции 1917 года. Уж, казалось бы, революция-то этот комплекс угнетенности и отсутствия радости жизни сняла. И что же? Ничего подобного. В 1927 году Н. Бухарин в своей статье вспоминает Гоголя «Неча пенять на зеркало, коли рожа крива». Он констатирует выход на историческую арену в России знакомых не только по литературе, но и по фольклору персонажей. «Идеализация «разудалых натур» («широкая русская натура»), вплоть до «разбойничков» …, – пишет Н. Бухарин, – выражала собой протест против «азиатского деспотизма» царей. Формы протеста были подчас дикими или даже комичными. Но они были формами «протеста», и в этом заключалась их положительная роль» [145].
В следующей статье он касается непосредственно персонажей Гоголя и Салтыкова-Щедрина, которые после революции вновь начали себя проявлять, причем, не в театре и литературе, а в самой жизни. По этому поводу он пишет так: «Если «отвлечься» от хода исторического развития, от соотношения классов, от растущего социализма, от всей исторической перспективы, т. е. если посмотреть глазами «малого рассудка», то можно было бы прийти в замешательство от некоторых картин нашего «управленческого» быта. Галерея щедринских героев, перекрасивших свои штаны, напяливших на себя другие исторические костюмы, могла бы без особого труда быть обнаружена в нашей действительности. Можно было бы найти и указы о «пирогов печении»; можно было бы открыть и самых настоящих «ташкентцев» (ср., напр., недавнее дело об ирригации); можно было бы вытащить на свет божий героев, единственным лозунгом которых является святой пароль «тащить и не пущать»; можно было бы взять на мушку «органчиков» и Угрюм-Бурчеевых, гоголевских «ревизоров» и грибоедовских Молчалиных; можно было бы наблюдать и сцены «У парадного подъезда», получившие название «бюрократия и волокиты» [146]. Так подтверждается наша мысль о трагикомическом подтексте ментальности, характерной для русской культуры, которая, собственно, и питает функционирование жанра трагикомедии.
ПРИМЕЧАНИЯ
[103] Шкловский В.Б. Искусство как прием // Шкловский В.Б. Гамбургский счет. М.: Советский писатель, 1990. С. 63.
[104] Ханзен-Леве О. Русский формализм. Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 12.
[105] Там же. С. 23.
[106] Бергсон А. Смех. М.: Искусство, 1992. С. 121.
[107] Фрейд З. Указ соч. С. 105.
[108] Жельвис В.И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема в языках и картинах мира. М.: Ладомир, 2000.
[109] Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М.: Искусство, 1968. Т. 2. С. 145.
[110] Базаров В. Заколдованное царство // Летопись. 1916. № 4. С. 206.
[111] Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Эксмо, 2014. С. 368.
[112] Бергсон А. Указ. соч. С. 21.
[113] Там же. С. 59.
[114] Ханзен-Леве О. Указ. соч. С. 14.
[115] Бергсон А. Указ. соч. С. 29.
[116] Ханзен-Леве О. Указ. соч. С. 550.
[117] Там же. С. 212.
[118] Там же. С. 213.
[119] Базаров В. Заколдованное царство // Летопись. 1916. № 4. С. 204.
[120] Шестов Л. На весах Иова // Шестов Л. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 106.
[121] А. Г. Психология театральной толпы // Театр и искусство. 1898. № 5. С. 100.
[122] Бахтин М.М. Рабле и Гоголь // Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Эксмо, 2014. С. 695.
[123] Мейерхольд В.Э. Указ. соч. Т. 2. С. 132.
[124] Там же. С. 145.
[125] Там же. С. 161.
[126] Там же. С. 257.
[127] Там же. С. 298.
[128] Гоголь Н.В. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4. М.: Гослитиздат, 1949. С. 232.
[129] Розанов В.В. Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Опыт исторического комментария с присоединением двух этюдов о Гоголе. СПб.: типография М. Меркушева, 1902. С. 134.
[130] Там же. С. 134.
[131] Базаров В. Указ. соч. С. 212.
[132] Мейерхольд В.Э. Указ. соч. Т. 2. С. 312.
[133] Базаров В. Указ. соч. С. 212.
[134] Белый А. Гоголь и Мейерхольд // Гоголь и Мейерхольд. М.: Никитинские субботники, 1927. С. 9.
[135] Базаров В. Указ. соч. С. 218.
[136] Там же. С. 220.
[137] Там же. С. 222.
[138] Там же. С. 223.
[139] Там же.
[140] Там же. С. 227.
[141] Там же. С. 207.
[142] Там же. С. 208.
[143] Бахтин М.М. Рабле и Гоголь // Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле... С. 691.
[144] Базаров В. Указ. соч. С. 209.
[145] Бухарин Н.И. О старинных традициях и современном культурном строительстве // Революция и культура. 1927. № 1. С. 19.
[146] Бухарин Н.И. Культурные задачи и борьба с бюрократизмом // Революция и культура. 1927. № 2. С. 5.
© Хренов Н.А., 2018
Статья поступила в редакцию 15 июля 2017 г.
Хренов Николай Андреевич,
доктор философских наук, профессор,
Всероссийского государственного университета
кинематографии им. С.А. Герасимова.
email: nihrenov@mail.ru

ISSN 2311-3723
Учредитель:
ООО Издательство «Согласие»
Издатель:
Научная ассоциация
исследователей культуры
№ государственной
регистрации ЭЛ № ФС 77 – 56414 от 11.12.2013
Журнал индексируется:
Выходит 4 раза в год только в электронном виде
Номер готовили:
Главный редактор
А.Я. Флиер
Шеф-редактор
Т.В. Глазкова
Руководитель IT-центра
А.В. Лукьянов
Наш баннер:

Наш e-mail:
cultschool@gmail.com
НАШИ ПАРТНЁРЫ:
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Культуру культуры» обязательна.
© Научная ассоциация исследователей культуры, 2014-2024







