НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Научное рецензируемое периодическое электронное издание
Выходит с 2014 г.

Гипотезы:
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Э.А. Орлова. Антропологические основания научного познания
Дискуссии:
В ПОИСКЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (рубрика А.Я. Флиера)
А.В. Костина, А.Я. Флиер. Тернарная функциональная модель культуры (продолжение)
Н.А. Хренов. Русская культура рубежа XIX–XX вв.: гностический «ренессанс» в контексте символизма (продолжение)
В.М. Розин. Некоторые особенности современного искусства
В.И. Ионесов. Память вещи в образах и сюжетах культурной интроспекции
Аналитика:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
А.Я. Флиер. Социально-организационные функции культуры
М.И. Козьякова. Античный космос и его эволюция: ритуал, зрелище, развлечение
Н.А. Хренов. Спустя столетие: трагический опыт советской культуры (продолжение)
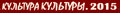

Д.Ю. Густякова
Современная европейская постановка русской оперы
как модель взаимодействия классики и массовой культуры
Аннотация: Статья посвящена проблеме репрезентации отечественной классики в современной культуре. На примере постановки оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в Нидерландской опере (Амстердам, 2011) рассматривается реализация анахронистического принципа репрезентации классического материала. В ходе анализа данной постановки выявляются интерпретационные приемы и принципы, лежащие в основе репрезентации оперной классики в пространстве массовой культуры: нигилистическое и деструктивное отношение к композиторской трактовке художественных образов с ориентацией на образно-смысловую сферу литературного первоисточника; попытка «вчитать» подтексты, выявить иные по отношению к авторскому замыслу мотивы развития драмы; стремление придать оперному спектаклю наглядности, во имя чего – экстраполяция в театральное пространство художественных приемов кинематографа, фокусирующих и направляющих восприятие зрителя; тяготение к интерпретационным решениям, в основе которых лежат принципы эклектики, «клиповости», следовательно, обращение к художественным методам цитирования, интертекстуальности; «актуализация» действия, базирующаяся на игре с хронотопом, на приближении сюжета к современности интерпретатора и зрителя, пропитывающая интерпретацию классического произведения анахронизмами; тенденция к эпатажности и провокативности интерпретации, насыщение действия эффектными решениями, призванными удивить, заинтриговать публику.
Ключевые слова: Русская классика, современная массовая культура, опера, репрезентация, интерпретация, принцип анахронизма.
Нынешнее состояние классической оперы, связанное с практикой так называемых «нетрадиционных» постановок, принято обозначать в терминах «современная оперная режиссура», «режиссерская опера». Причем, если первая формулировка чаще встречается в профессиональной риторике и используется для обозначения постмодернистской репрезентации оперы в современном театре, то второе словосочетание, актуализируясь в рекламе и анонсах спектаклей, в высказываниях массовой аудитории на веб-форумах (где оно обросло негативными коннотациями, проявляющимися, в частности, в распространенном сокращении «реж. опера», снижающем понятие едва ли не до уровня инвективы), прямо и явно тяготеет к сфере массовой культуры.
Противоречивый дискурс характеризует парадокс бытия оперы в пространстве современной культуры, когда классические произведения элитарного жанра, претерпевая метаморфозы под воздействием постмодернистской режиссуры, зачастую низводятся до уровня масскультовского продукта. Показательно, что данная тенденция, в первую очередь, затрагивает произведения, имеющие статус шедевров художественной культуры, сдвигая на маргинальный уровень такие характеристики их самоценности, как подлинность, уникальность, оригинальность, аутентичность, признанность. Здесь важно подчеркнуть еще один парадокс, связанный с репрезентацией классической оперы в современном театре. Основные интерпретационные изменения затрагивают преимущественно визуальную сторону оперного спектакля, при этом композиторский текст партитуры остается совсем (или почти) неприкосновенным, таким образом, художественный результат лишается эстетического единства и расслаивается на инновационную режиссерскую составляющую и традиционную, порой аутентичную, дирижерско-исполнительскую трактовку.
В постановке оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в Нидерландской опере режиссером С. Херхаймом (Амстердам, 2011, дирижер М. Янсонс) режиссерская интерпретация текста классического произведения реализуется в форме анахронизма. Термин «анахронизм» в данном случае понимается как принцип репрезентации текста классического оперного произведения, предполагающий намеренную и существенную трансформацию хронологической логики и контекста развития сюжета, в том числе, связанную с «актуализацией» и «историзацией» действия.
Анализируемая постановка есть, по сути, перевод русской классики на язык другой национальной культуры. Режиссер С. Херхайм, обращаясь к полилингвизму как одному из ключевых свойств массовой культуры, предлагает простые, лежащие на поверхности, соответствующие ожиданиям, доступные и понятные амстердамской или любой другой европейской публике, смыслы. Причем, если для русской публики и история России, и опера «Евгений Онегин» – это неотъемлемая часть культурной идентичности, основа «укорененности» в надежном и узнаваемом прошлом; то западную публику опера П.И. Чайковского, скорее всего, привлекает своей известностью, сюжет притягивает энигматичной «русскостью» и классическим пушкинским дискурсом, музыка очаровывает красотой привычного европейского мелодизма, а интерпретация русской истории, предлагаемая С. Херхаймом, интригует, вызывает интерес и любопытство, поддерживает миф о «загадочности» России, удовлетворяет стремлению к экзотике.

Режиссер Стефан Херхайм
Норвежец С. Херхайм – весьма востребованный европейский оперный режиссер, известный своими провокативными зрелищно-избыточными репрезентациями классики, – отрицает существование как «традиционной», так и «современной» режиссуры. Оперный критик А. Курмачев транслирует мнение С. Херхайма об этой проблеме: «Абсолютно любая современная постановка классики – это постановка наших дней, отражающая наш современный субъективный взгляд на события прошлого. Мы не знаем, как звучали тогда голоса, как двигались люди, как именно они выражали свои мысли и даже как держали чашку чая. В такой ситуации любая “аутентичность” не менее субъективна, чем любая модернизация… Скорее даже модернизация более честна, ибо то, что “традиционные” постановки выдают за аутентичность, – откровенная ложь, более или менее отвечающая усредненным представлениям публики о той эпохе, о которой идет речь в либретто, и о которой практически никогда ничего мы не слышим в самой музыке» [1]. Таким образом, можно утверждать, что режиссер не признает существование беньяминовской «ауры» произведения искусства как его аутентичности и уникальности существования во времени и пространстве [2] и изначально относится к оперной классике как своего рода анахронизму. Поэтому закономерно, что преобладающим принципом его работы с оперой П.И. Чайковского «Евгений Онегин» становится «актуализация» действия, обусловливающая наличие в постановке значительного анахронистического комплекса.
Анахронистический принцип в анализируемой постановке реализуется на двух уровнях. Первый уровень – сюжетный или субъективный, – в его основе лежит противопоставление пространств памяти (было) и действительности (есть) через призму восприятия главных героев Татьяны и Онегина. Второй уровень – исторический или объективный, – представляет собой «энциклопедию русской жизни» от С. Херхайма, своего рода режиссерский дайджест событий российской истории XIX-XX веков, наполненный предсказуемыми и легко считываемыми массовым зрителем символами и приметами времени.
Сюжетный (субъективный) анахронизм связан с трансформацией авторской фабулы, изменением хронотопа произведения. «Деревенских» сцен, как таковых, в постановке нет, а все события, происходившие в доме Лариных, даны в воспоминаниях Онегина и Татьяны, спустя годы случайно встретившихся на столичном балу. Таким образом, сценическое время сворачивается до одного вечера, и зрители наблюдают за развитием событий как бы в реальном времени.
Режиссер актуализирует действие, перенося его в универсально-узнаваемую «матрицу», которую условно можно обозначить как «современность». В постановке, в русле стереотипных представлений о шике и роскоши великосветского (или нуворишского) приема, изображен столичный бал в доме Греминых с блестящим (в прямом и переносном смысле) бомондом, суровыми секьюрити, дорогим костюмированным шоу, слугами в ливреях и париках в стиле XVIII века. И если сценически-обыгранная увертюра уже стала «общим местом» современных оперных постановок, то в спектакле С. Херхайма действие начинается еще до музыкального вступления: на фоне звуков настраивающихся оркестровых инструментов происходит своего рода перформанс – из дверей лифтов выходят гости, мужчины в смокингах, дамы в нарядах «Haute couture», они приветствуют друг друга, отмечаются в списке приглашенных, пробуют аперитив.
Вместо оркестрового вступления, основанного на теме Татьяны и выполняющего в музыкальной драматургии оперы функцию образной характеристики главной героини, намного опережая события композиторского текста и предопределяя анахронистическую парадигму режиссерской концепции, звучит экосез из VI картины. Под звуки экосеза на сцене появляется странный, одинокий, потерянный неврастеничный человек – это Онегин (Б. Сковхус), – который здесь явно чужой, другие гости смотрят на него с недоумением, сторонятся. И только теперь звучит оркестровое вступление, меняющее в анализируемой режиссерской интерпретации свою функциональную нагрузку и характеризующее уже не Татьяну, а Онегина. Как известно, П.И. Чайковский, интерпретируя в опере сюжет романа А.С. Пушкина, акцентировал внимание на главной героине, но в данной постановке С. Херхайм, очевидно следуя за литературным первоисточником, уделяет внимание главному герою в большей степени, чем это было задумано композитором. В результате режиссерской интерпретации происходит смещение и наслоение друг на друга образных планов произведения: равнодушно-холодный, морализирующий Онегин первых – «деревенских» – картин оперы характеризуется нежной и теплой музыкальной темой сентиментально-мечтательной Татьяны.
Далее С. Херхайм предлагает эффектный сюжетный ход, который хотя и противоречит композиторской концепции, вполне рационально вписывается в режиссерское решение спектакля: ближе к окончанию оркестрового вступления на сцене появляется супружеская чета Греминых – хозяйка приема Татьяна (К. Стоянова) выходит к гостям под руку с князем (М. Петренко). Такое решение, во-первых, наглядно иллюстрирует интерпретационную концепцию спектакля массовой аудитории, принадлежащей любой национальной культуре, во-вторых, данный постановочный ход привлекателен потенциально присутствующими в нем пикантными мелодраматическими подробностями: солидная светская дама – княгиня Гремина – и Онегин, представленный режиссером как persona non grata, встречаются взглядами, их охватывают воспоминания о былом, и все дальнейшее действие происходит как странное и парадоксальное совмещение прошлого и настоящего. Подчеркнем, что такая интерпретация сюжетной завязки отчетливо вписывается в анахронистическую концепцию спектакля.
Сценография спектакля (сценограф Ф. Фюрхофер) – конструктивная, условная, многофункциональная – до конца спектакля остается почти неизменной, лишь дополняясь путем чистых перемен некоторыми деталями. Основа сценографического решения – просторный холл с малахитовыми стенами, раздвижными дверями красного дерева, мраморным полом и огромным стеклянно-зеркальным кубом-павильоном, на две ступени возвышающимся над сценой, внешние грани которого трансформируются в две вертикальные плоскости, расположенные крест накрест и вращающиеся наподобие огромных дверей. В зависимости от действия спектакля стеклянный павильон условно обозначает различные сюжетные «локусы»: «столичный» – зимний сад, лобби бар, сценическая площадки для шоу; «деревенский» – дом Лариных, спальня Татьяны, место дуэли.
Пространство памяти персонажей («деревенские» события) и пространство сформированной режиссером сюжетной действительности («столичные» события) также условно, но наглядно для зрителей разделяются визуальными сценографическими приемами – либо раздвижными стеклянными панелями, либо однозначно трактуемым делением сцены на право (настоящее) и лево (прошлое), причем в обоих хронотопах действие развивается параллельно. Например, хор «Болят мои скоры ноженьки»: в пространстве памяти – приблизительно стилизованные пейзане «а-ля рюс», пришедшие к Лариной с первым снопом; в пространстве действительности – светский бомонд, приветствующий чету Греминых. Хор «Уж как по мосту, мосточку» в сфере настоящего представлен как концертное выступление народного ансамбля, в усредненно-славянских лубочных костюмах выстроившегося на «малой сцене» стеклянного павильона. Этот же хор в сфере прошлого репрезентируется как русская пляска «двойников» главных героев (Онегина, Татьяны, Ленского и Ольги). Также наглядно и отчетливо представлены перемещения Татьяны и Онегина из одного пространства в другое: пересечение границ условных сценических областей «нынешнее» – «минувшее», переодевание в стилизованные «под старину» костюмы, появление «двойников» из прошлого, взаимодействие с персонажами из «деревенских» картин оперы.
Анахронистическое концептуальное решение повлекло за собой и жанровую трансформацию оперы – С. Херхайм, не принимая во внимание элегическое и сентиментально-мечтательное настроение музыки П.И. Чайковского, вводит «лирические сцены» в русло психологической драмы. Режиссер, как уже говорилось, смещает сюжетные акценты с Татьяны на Онегина, делая его главным героем, обращая внимание зрителя на динамику его психологических состояний, приближая решение этого образа, скорее, к характеру Германа из «Пиковой дамы» П.И. Чайковского. В этой связи следует подчеркнуть, что С. Херхайм, опираясь на масскультовские приемы, делает Онегина более понятным для европейской публики. Так, режиссер довольно прямолинейно «играет на контрасте»: высокий и мощный «викинг» – датчанин Б. Сковхус – с нордическими, словно высеченными из камня, чертами лица, всей своей внешностью внушающий уверенность в его здоровой и незыблемой мужественности, пытается воплотить сконструированный режиссером образ чувствительного, легкоранимого героя, страдающего во власти собственных душевных порывов, болезненно переживающего настоящее и мучительно терзаемого воспоминаниями о прошлом. В ходе прямой трансляции данной постановки из Нидерландской оперы (телеканал Mezzo, 23.06.2011), исполнители главных ролей и создатели спектакля комментировали некоторые аспекты его концептуального решения. Так, объяснение Б. Сковхусом режиссерской трактовки своего персонажа, очевидно, базируется на идее поиска амстердамским Онегиным собственной идентичности – его аффектации и почти болезненная эмоциональная лабильность обусловлены его неспособностью к собственным эмоциональным переживаниям. Именно эта «бесчувственность» побуждает героя пытаться понять и «присвоить» душевные порывы других персонажей, и именно поэтому режиссер вводит Онегина в сцену письма Татьяны, заставляет следовать тенью за Ленским (А. Дунаев) во время его арии «Куда, куда вы удалились». В таком концептуальном решении также прослеживаются «следы» массовой культуры: проблема культурной идентичности, вообще, и кризис самоидентификации личности, в частности, – довольно популярная тема в европейской художественной практике, начиная с рубежа XIX-XX веков и до настоящего времени, – потому образ Онегина, находящийся в русле этого «мейнстрима», становится ближе и доступней амстердамской публике.
Специфика режиссерской концепции также обнаруживается в оригинальной, даже радикальной репрезентации второй картины оперы (сцена письма). В данном эпизоде сферы прошлого и настоящего представлены как две спальни, условно обозначенные супружеской и девичьей кроватями Татьяны. Причем в супружеской кровати сначала читает книжку, а потом засыпает Гремин, в то время как Татьяна ведет диалог с Филиппьевной (Н. Романова) «о старине». На границе пространств памяти и действительности появляется письменный стол с зеленой лампой. Когда Татьяна решается написать письмо, приходит Онегин, теперь это его комната и его письменный стол, а она будто бы присутствует лишь в мыслях героя, как фантом, как его греза. Решая данный эпизод в анахронистическом ключе, фактически, как сцену письма Онегина, режиссер, с одной стороны, этим иллюстрирует и подчеркивает, что чувства героя к Татьяне стали такими же, как у нее ранее; с другой стороны, вероятно ориентируясь на литературный первоисточник и уравновешивая сцену письма Татьяны сценой письма Онегина, режиссер «договаривает» за композитора и наглядно демонстрирует то, что в произведении П.И. Чайковского лишь подразумевалось, проступало намеком.

Сцена письма Татьяны (II картина)
В сцене первого объяснения с Онегиным – третья картина – Татьяна как бы «раздваивается» на девушку (молодая артистка миманса) и женщину (К. Стоянова), причем старшая (поющая) ипостась героини, наблюдая со стороны, сочувствуя и сопереживая, не только комментирует происходящие события, но и пытается воздействовать на ситуацию, направляя юную Татьяну к Онегину. Описанный прием, во-первых, вырастает из общей анахронистической парадигмы постановки и, во-вторых, делает доступными для понимания зрителей смыслы, которые режиссер «вчитывает» в классический оперный текст.
В масскультовский контекст вписывается и идейная вторичность некоторых фрагментов спектакля С. Херхайма, например, прослеживаются реминисценции известной постановки оперы «Евгений Онегин» режиссером Д. Черняковым (Москва, 2006). Скажем, реплику «О! Как мне тяжело! Опять Онегин…» Татьяна у С. Херхайма также адресует Гремину. В обеих постановках Гремин, который, по всей видимости, в курсе событий, произошедших в усадьбе Лариных, а также переживаний своей супруги по поводу новой встречи с Онегиным, и санкционирует «психотерапевтический» разговор Татьяны с Онегиным, и приходит в конце объяснения, чтобы увести ее. В обеих трактовках главный герой делает вид, что хочет застрелиться. Но есть и важное отличие, заключающееся в том, что в спектакле С. Херхайма герой в прямом смысле опозорен: гости, с любопытством наблюдавшие за развитием «шоу», смеются над безуспешными попытками Онегина выстрелить в свое отражение из незаряженного пистолета, который дал ему Гремин, незаметно вынув патроны.
Таким образом, можно утверждать, что режиссер, на уровне сюжета, реализует принцип анахронизма вполне буквально – посредством перекомпоновки событий оперы, изменения их хронологической последовательности, смещения причинно-следственных связей. Аутентичная композиция классического произведения искажается, деформируется, вследствие чего авторская логика повествования подменяется последовательностью развития изображаемых явлений на основе закономерностей, усматриваемых режиссером. Хронологическая полиритмия влечет за собой и усиливает смысловые диссонансы, связанные с расхождением музыкального композиторского текста классической оперы и визуальной режиссерской составляющей постановки.
Как писал в книге «Смерть прошлого» Дж.Г. Пламб: «Прошлое служит лишь отдельным индивидам, тогда как история, по-видимому, служит многим» [3], и С. Херхайм не ограничивается в своей постановке сюжетным (субъективным) уровнем реализации анахронистического принципа, связанного с интерпретацией индивидуальных характеристик персонажей и психологической рефлексией над их личным прошлым. Уводя за пределы фабулы произведения, режиссер создает второй анахронистический план, создающий художественные обобщения нового уровня, – он, как уже упоминалось, обращается к интерпретации истории России периода XIX-XXI веков. Именно этот уровень реализации анахронистического принципа условно можно обозначить как исторический (объективный) анахронизм. Исторические анахронизмы формируются режиссером на основе массовых сцен оперы (например, выше шла речь о трактовке «крестьянского» эпизода I картины), но, наиболее ярко они представлены в сценах бала: «деревенского» у Лариных (IV картина) и «столичного» у Греминых (VI картина).
Медведь, как сновидение Татьяны и как известное клише, вечный знак и неизменный символ России в западной массовой культуре, в постановке С. Херхайма является своеобразным «распорядителем» обоих балов. Этот персонаж волне логично вписывается в анахронистическую парадигму спектакля: «вневременной» медведь – это своего рода масскультурная универсалия, собирательный образ всего «русского». Он открывает бал в доме Лариных, по «мановению» его лап раздвигаются стеклянные панели пространства «былого», медведь забавно пляшет под музыку, имитируя движения в стиле «диско». Звучит вальс, и появляются тяжеловато вальсирующие пары в одинаковых туалетах, стилизованных в духе первой половины XIX века (очевидная реминисценция балов из экранизаций романов Л.Н. Толстого «Война и мир»). Во главе танцующих идет галантно-жеманный, напудренный и напомаженный Трике в гротескном наряде а-ля XVIII век – вышитый шелковый жюстокор, кружевные манжеты и жабо, кюлоты с белыми чулками, огромный парик. Остальные гости одеты вразнобой – в костюмы, напоминающие, скорее, моду конца XIX – начала XX века, хотя при этом неоднородно-эклектичные и приблизительные. Например, на мужчинах можно видеть неточную стилизацию формы гусар времен Александра I, офицерской формы армии и флота времен Александра II и Александра III.

Деревенский бал в доме Лариных (IV картина)

Ария Ленского. Сцена дуэли (V картина)

Столичный бал в доме Греминых (VI картина)
На уровне сюжета действие оперы развивается по привычному для зрителей композиторскому сценарию: сплетни гостей, скука и раздражение Онегина, флирт с Ольгой (Е. Максимова), возмущение Ленского, ссора и вызов на дуэль. Но режиссер добавляет сюда исторический фон, который, по-видимому, его интересует больше, чем личные драмы героев. На сцене появляются символы грядущих перемен – красная книжка Татьяны, попадая в руки «революционного радикала» Ленского (или Ленина?), превращается в знак идеологического экстремизма, над сценой настоящим огнем горит пятиконечная звезда, поджигая парик Трике. Наконец, крушение иллюзий Ленского совпадает с крушением царской России – в финале IV картины на сцену врываются большевики, которые окружают, расстреливают и закалывают штыками представителей «старого режима».
Сцена дуэли (V картина), по-видимому, сопоставляется режиссером с историческим периодом красного террора, коллективизации, концлагерей. На голове Ленского чуть ли не ленинская кепка, он даже на какой-то момент встает в узнаваемую позу с заложенными за вырезы жилетки большими пальцами рук. У секунданта Ленского – Зарецкого – поверх красноармейской шинели надета портупея с кобурой, при этом на голове – мягкая фуражка-шестиклинка польского или литовского полицейского. Ленский исполняет свою арию, склоняясь над искореженной металлической звездой, на фоне понуро бредущих крестьян, вероятно, «сгоняемых» в колхозы, а также политзаключенных и охраняющих их вооруженных военных в форме, напоминающей красноармейскую времен гражданской войны.
Великосветский «столичный» бал VI картины открывает фееричный шоу-парад легко узнаваемых (и для русского, и для европейца) образов советского и постсоветского «мифа». Под торжественные звуки полонеза перед изумленной публикой проходят: советские физкультурники и гимнастки с надписями «СССР» на груди, артисты танцевальных и хоровых коллективов в русских народных костюмах, какие-то «пожилые» комсомольцы, рабочие и крестьяне, солдаты и матросы, космонавты с орденами и медалями прямо на скафандрах, патриарх в митре и император в короне шествуют парой в роскошных облачениях, попы с крестами в рясах, советский цирк, советский балет, представленный классическим па-де-труа – Одетта, Одиллия, Зигфрид. Этот пестрый маскарад смешивается с одинаковыми бальными парами из IV картины. И снова нелепо-карикатурный медведь правит бал в этом странном паноптикуме. Отметим, что здесь С. Херхайм не новатор – парадоксы и гротеск эпатажно-экстравагантного решения классической оперы, вызывающие у публики «удивление и любопытство», – это прямые реминисценции эффекта «очуждения» Б. Брехта.
Таким образом, С. Хархайм, воспроизводя и пародируя масскультовские «бренды», связанные в сознании западного человека с Россией, с Советским Союзом, создает «попурри», способное впечатлить массового зрителя, и «склеивает» из банальных клише коллаж под названием «русская культура глазами европейца». В этой связи, тезис Е.Н. Шапинской о том, что в постмодернистской культуре «на место напряженного чувства прошлого, свойственного модернизму, приходит утрата чувства истории как памяти, и возникают суррогаты темпорального (строя), выражающиеся в ретро-стилях и образах», а режиссеры-постмодернисты «играют» этими образами, «выражая, с одной стороны, крайний субъективизм, с другой – явно делая ставку на коммерческий успех» [4], может быть справедливо отнесен к анализируемой работе С. Херхайма.
Таким образом, можно утверждать, что принцип анахронизма, реализуемый режиссером в данной постановке, выступает механизмом, позволяющим выстроить диалог, решить проблему перевода, перекодирования и адаптации языка классического текста русской культуры к восприятию представителями западной культуры. Но классическая музыка – это «лингва-франка», это общий язык, она понятна и не требует перевода, а произведение искусства, по определению, является пространством интерсубъективности, полем реализации межсубъектного взаимодействия. Поэтому классическая опера в контексте диалога культур – это «квази-субъект», являющийся одновременно поводом и темой, собеседником и оппонентом, средством и пространством общения, который должен сохранить свою субъектную самостоятельность и быть понятым, не подвергаясь переводу на другие языки.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Курмачев А. В поисках ключа к загадочной русской душе: «Евгений Онегин» Штефана Херхайма в Амстредаме // OperaNews.Ru / Все об опере в России и за рубежом. URL: http://operanews.ru/11071001.html (дата обращения: 07.04.2014).
[2] Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Медиум, 1996.
[3] Цит. по: Лоуэнталь, Д. Прошлое – чужая страна. URL: http://abuss.narod.ru/Biblio/megill/louental_intro.htm (дата обращения: 07.04.2014).
[4] Шапинская Е.Н. Фигуры власти в русском искусстве: игры с историей на российской оперной сцене // Ярославский педагогический вестник. 2013. № 2. Т. I (Гуманитарные науки).
© Густякова Д.Ю., 2015
Статья поступила в редакцию 1 февраля 2015 г.
Густякова Дарья Юрьевна,
кандидат искусствоведения,
доцент и докторант
Ярославского государственного
педагогического университета
им. К.Д. Ушинского.
e-mail: dar_gu@mail.ru

ISSN 2311-3723
Учредитель:
ООО Издательство «Согласие»
Издатель:
Научная ассоциация
исследователей культуры
№ государственной
регистрации ЭЛ № ФС 77 – 56414 от 11.12.2013
Журнал индексируется:
Выходит 4 раза в год только в электронном виде
Номер готовили:
Главный редактор
А.Я. Флиер
Шеф-редактор
Т.В. Глазкова
Руководитель IT-центра
А.В. Лукьянов
Наш баннер:

Наш e-mail:
cultschool@gmail.com
НАШИ ПАРТНЁРЫ:
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Культуру культуры» обязательна.
© Научная ассоциация исследователей культуры, 2014-2024







