НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Научное рецензируемое периодическое электронное издание
Выходит с 2014 г.

Гипотезы:
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Э.А. Орлова. Антропологические основания научного познания
Дискуссии:
В ПОИСКЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (рубрика А.Я. Флиера)
А.В. Костина, А.Я. Флиер. Тернарная функциональная модель культуры (продолжение)
Н.А. Хренов. Русская культура рубежа XIX–XX вв.: гностический «ренессанс» в контексте символизма (продолжение)
В.М. Розин. Некоторые особенности современного искусства
В.И. Ионесов. Память вещи в образах и сюжетах культурной интроспекции
Аналитика:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
А.Я. Флиер. Социально-организационные функции культуры
М.И. Козьякова. Античный космос и его эволюция: ритуал, зрелище, развлечение
Н.А. Хренов. Спустя столетие: трагический опыт советской культуры (продолжение)
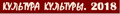

В.П. Крутоус
К проблеме эстетического значения культурологической рефлексии
для наук об искусстве
(краткий обзор фундаментального труда Н.А. Хренова
и попутные размышления на затронутые в нем темы)
Аннотация. Рецензия посвящена рассмотрению нового плодотворного подхода к анализу искусства прошлого и настоящего, который разработан видным российским ученым, доктором философских наук Николаем Андреевичем Хреновым. Целостная авторская концепция обоснована и изложена в его фундаментальном труде «Искусство в исторической динамике культуры» (М.: ООО «Издательство «Согласие», 2015), включающем в себя 25 его обширных научных публикаций последних полутора десятилетий. Основу книги составила «циклически-возвратная» модель эволюции искусства, открывающая широкий простор для сопряжения старого и нового, авангарда и архаики. Эта концепция разработана ее автором на стыке, с одной стороны, философско-культурологического знания и искусствоведческо-эстетического – с другой.
Настоящая статья концентрирует внимание на методологических аспектах обсуждаемой темы. Изложение ведется с сознательным отступлением от канонов жанра рецензии, в форме диалога с автором и замечаний «на полях» его книги.
Ключевые слова. Культурологическая рефлексия, циклизм, переходная эпоха, культура чувственного/сверхчувственного, просвещенческий рационализм, романтизм, символизм, авангард в искусстве, постмодернизм, неклассическая эстетика.
На протяжении нескольких последних лет московское издательство «Согласие» осуществляет издание серии объемистых книг, принадлежащих перу видных современных отечественных культурологов; книг, подытоживающих результаты их исследований за значительный период времени. Инициатива весьма своевременная и полезная. Культурология в России находится на подъеме, учеными накоплен значительный мыслительный материал, требующий вдумчивого освоения, оценки, обобщения и дальнейшего развития. Теперь читатель, интересующийся проблемами культуры в теоретическом освещении, вместо того, чтобы разыскивать нужные ему публикации по различным научным журналам, иногда малоизвестным и малотиражным, получает возможность обозреть сразу целый корпус работ того или иного автора и по достоинству оценить продуктивность развиваемых им идей.
Сейчас одна из книг этой серии лежит передо мной [1]. Ее автор Николай Андреевич Хренов (доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания Министерства культуры РФ) хорошо известен в научной среде как человек разносторонних интересов и дарований: являющийся профессионалом в искусствознании, эстетике, теории и философии культуры, киноведении, а также зарекомендовавший себя умелым организатором коллективных научных проектов. В данной книге собраны 25 его статей, две из которых написаны в 1990-е годы, большинство же – с 2000-го по 2013-й год, а еще два текста подготовлены специально для настоящего издания 2015-го года. Таким образом, данный массив работ ученого охватывает полтора первых десятилетия XXI века. Это значительный временной отрезок в творческой биографии ученого, и своего рода отчет об исканиях в указанных областях творческой мысли России на переломе от века XX к веку XXI.
По прочтении книги Н.А. Хренова – а это 750 страниц большого формата – напрашивается сравнение ее с впечатляющих размеров зáмком. Очевидно, что он построен по единому, определенному плану; но сколько же в нем отдельных корпусов, порталов, портиков, переходов, пристроек и т.п., многие из которых достаточно автономны и ценны сами по себе! Тематический диапазон книги необычайно широк. Многообразнейшее ее содержание разделено на четыре раздела. I – «Культура в ситуации перехода». II (наиболее близкий мне по роду занятий, фактически анонсированный в Предисловии: Почему функционирование искусства в последние десятилетия истекшего столетия стало предметом культурологической рефлексии?) озаглавлен соответственно – «Методология изучения искусства в культурологическом ракурсе». III – «Вопросы исторической культурологии». IV – «Массовые виды искусства в контексте культуры».
Значительная часть материалов книги посвящена обсуждению понятия «культура»; предмета и статуса культурологии, ее эволюции и современного состояния, а также того ее наивысшего слоя, который традиционно именуется «философией культуры». И это еще не все. Немалую долю содержания книги составляют обширные исследования по истории российского общества и русской культуры последних двух-трех столетий. Предметом особого интереса автора являются темы: «Россия и Запад», «Россия и Восток», освещаемые в общеисторическом, культурологическом и искусствоведческом планах.
И вот я думаю: под силу ли мне хотя бы в первом приближении охватить единым взглядом такое многообразие тем, идей и проблем? (Да еще трудностей добавляет досадная недоработка издателей «Согласия»: иногда они не выносят внутреннюю рубрикацию конкретной статьи в общее Оглавление. Например, часть вторая статьи «Русское искусство рубежа XIX-XX веков и его роль в культурном синтезе Запада и Востока» насчитывает семь подразделов, в Оглавлении не обозначенных. Такая «экономия места» невольно скрадывает аспектацию и детализированность исследовательской мысли, а читателя вынуждает отслеживать имплицитную структуру текста самому). Да разве только многосоставность, многоплановость данной книги внушает некую робость тому, кто намеревается на свой страх и риск судить о ее содержимом? Эрудиция автора кажется почти безграничной. Он ведет свои исследования с постоянным привлечением достижений как западной, так и отечественной мысли. В качестве «собеседников» и «маяков» для автора на страницах его книги все время присутствуют философы – Платон, Аристотель, Кант, Шеллинг, Владимир Соловьев, Н.А. Бердяев, социологи культуры и культурологи – О. Шпенглер, П. Сорокин, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, историки и теоретики искусства – Г. Зедльмайр, Ж. Базен, эстетики – Т. Адорно, Г. Лукач и еще многие, многие другие.
Пишущий эти строки, не будучи дипломированным культурологом, не претендует на рассмотрение культурологической проблематики книги в ее полном объеме. Правда, есть в ней одна тема, столь же близкая мне, как и самому Н.А. Хренову, – история России, ее сýдьбы и пути-перепутья. Но и эту часть содержания его труда я оставляю на долю специалистов-историков. Но есть и нечто, что приходит мне на помощь в данной деликатной ситуации. А именно, то, что книга Н.А. Хренова написана фактически на стыке, с одной стороны, философии культуры, культурологии, а с другой – искусствознания и эстетики. Вот об этом стыке, может быть, и мне позволительно судить более или менее профессионально. В своих анализах и замечаниях я предполагаю сосредоточиться, во-первых, на концептуальном нерве книги, вынесенном в ее заглавие, и, во-вторых, на узловых моментах той методологии анализа искусства, которая обосновывается автором и предлагается им к применению в искусствознании и эстетике.
* * *
Общая идея автора, навеянная культурологическими обобщениями П. Сорокина о направлении развития культуры от чувственных форм к сверхчувственным и затем к их синтезу, органичным образом вливается в его более общую концепцию циклизма. Автор предпочитает изучать искусство не изолированно, а как явление хотя и самостоятельное, суверенное, но связанное множеством опосредований, влияний и взаимовлияний с различными слагаемыми Культуры. Это поистине опыт обогащенного рассмотрения искусства «в исторической динамике культуры».
Если ранее изучение внешних влияний на эволюцию искусства зачастую ограничивалось социальной почвой, политикой, идеологией и социальной психологией (в пределах одного – двух последних столетий), то теперь и набор самих детерминант, и их ретроспектива необычайно расширяются. Авторитетнейшие представители гуманитарного знания уже давно указывали, что в наисовременнейших, инновационных явлениях искусства часто явно проглядывает «седая древность». Так, С.М. Эйзенштейн утверждал, что при восприятии остросюжетных кинофильмов у зрителей как бы пробуждаются, оживают древние инстинкты – первобытного охотника, следопыта и т.п. М.М. Бахтин обнаружил корни жанра романа в культуре Древней Греции – мениппее, сократическом диалоге и т.п. О.М. Фрейденберг, напоминает автор книги, утверждала, что у известных «поэтик» вроде Аристотелевой есть предыстория – в виде дологических форм сознания и мышления. Само собой разумеется, что этот богатейший материал современное теоретическое искусствознание не может оставить без внимания.
Исследования по мифологическому мышлению и глубочайшим архетипам человеческого сознания, представленные трудами Л. Леви-Брюля, К. Леви-Строса, К.Г. Юнга и других ученых, мыслителей, оказываются удивительно современными. Для самого Н.А. Хренова культурно-искусствоведческий интерес к архаике явно является приоритетным. Его исследования, собранные в обсуждаемой книге, убедительно подтверждают эвристичность такого рода экскурсов в глубокое «ретро».
Методологическое значение слияния так понимаемых механизмов поступательности и циклизма в развитии культуры и искусства трудно переоценить
Как известно, Хосе Ортега-и-Гассет начинает свою статью о «дегуманизации искусства» с тезиса о непопулярности нового (модернистского) искусства у широких масс зрителей. И это действительно так. Причину такой непонятности, «алогичности» и «произвольности» произведений авангардного творчества обычно усматривают в том, что всякое новое художественное направление поначалу воспринимается в его отталкивании от других, более привычных направлений, и аналогичным же образом объясняется теоретически. Это реальные причины, соглашается Н.А. Хренов, но более или менее частные (вплоть до личных амбиций конкретного художника, его стремлений к оригинальности и т.п.). Подобного рода объяснения он считает недостаточными, соответствующими лишь уровню традиционно-филологической и традиционно-искусствоведческой методологии. Подлинный же смысл и оправдание нового направления обнаруживаются с выходом исследователя на более высокий и общий культурологический уровень. Этот подход охватывает связи данного феномена со множеством экстрахудожественных (исторических, социальных, социально-психологических и других) факторов, рассматриваемых к тому же в длительной временной ретроспективе и перспективе. И такой обновленный ракурс видения, надо признать, во многом снимает проблему «непонятности» – по крайней мере, для рефлектирующего культурологического сознания. То, что казалось каким-то вздорным, произвольным, алогичным, вдруг обнаруживает свою убедительную логику.
Автор стремится решительно отмежеваться от ходячих представлений линейного характера развития. Именно в противовес таким воззрениям он обосновывает свою концепцию циклизма в эволюции культуры и искусства. Развиваясь, творя новое, их деятели вновь и вновь обращаются в поисках стимулов к уже, казалось бы, давно пройденным этапам, в том числе – к самым архаичным. Дело в том, что господствующая в том или иной период культура вытесняет все не созвучное себе на периферию, в область маргинальных явлений, а то и просто в сферу юнговского коллективного бессознательного. Новая самоутверждающаяся культура реабилитирует эти андеграундные элементы и тенденции, предоставляя им достойное место и ведущую роль. Так происходит смена культурных циклов. При этом возникают «переходные периоды» от цикла к циклу, обладающие повышенной творческой продуктивностью, многообразием поисков и открытий, чем они и приковывают к себе внимание исследователя. При этом сходство формальных элементов произведений, принадлежащих к различным виткам циклов, фиксируемые обычно филологами и искусствоведами, органически вписываются в гораздо более общий и определяющий контекст созвучия культурных эпох.
При такой методологической установке сфера, в которой работает искусствовед, и сам предмет его занятий необычайно расширяются. Во временнóм плане они охватывают практически всю протекшую до сих пор историю человечества. (Пример такого «всеохватного» мышления – по крайней мере, начиная с буддизма, греко-римской античности и до второй половины XIX века – нам дал Фридрих Ницше; а его самого, как утверждал Карл Ясперс, научила этому … христианская эсхатология). При обосновании циклической концепции развития культуры и искусства автор опирается на продуктивные идеи Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби, русских мыслителей Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева (в частности, он не раз использует леонтьевское понятие «цветущая сложность»), Н.А. Бердяева и др.
Важно подчеркнуть, что исследователь не только теоретически разрабатывает свою методологию, но и практически применяет, апробирует ее. Обрисованные выше руководящие методологические идеи и установки автора по ходу исследований конкретизированы им на весьма обширном историко-культурном материале. Исходным пунктом теоретических размышлений ученого, как уже было отмечено, является противопоставление чувственной культуры и культуры сверхчувственной. Данная оппозиция предопределяет, по мысли автора, также соответствующее раздвоение линий, ветвей в искусстве и эстетике.
Такой дуализм Николай Андреевич прослеживает поэтапно из весьма почтенной исторической глубины; по крайней мере, начиная с античности. Эта его логика проявляется, в частности, в противопоставлении «линии Аристотеля» и «линии Платона».
Эстетика Аристотеля привязана, прикована к чувственному миру, следовательно – бескрыла и неодухотворенна. Кроме того, она рационалистична, так как проводит принцип «художественной причинности». Иное дело эстетика Платона. В ней все чувственное восходит к сверхчувственной Идее и, как результат, исполнено высшего смысла.
Эпоха Средневековья, по мнению автора, плодотворна тем, что достойно продолжает и развивает платоновскую и неоплатоническую традиции. Здесь на религиозной почве расцветают ремесла, народная культура (карнавал, фольклор и т.д.). Недаром эта эпоха привлекла внимание таких крупных ученых-культурологов, как М.М. Бахтин, У. Эко и другие.
Возрождение вновь оживляет, реанимирует чувственную культуру и соответствующие ей искусство и эстетику. Но наиболее радикальной приверженностью линии, идущей от Аристотеля, выделяется, считает автор, эпоха Просвещения. Ученый воспринимает эту эпоху резко критически, в полном созвучии с известной работой М. Хоркхаймера и Т. Адорно «Диалектика просвещения» (1944). Именно в данный период в культуре и искусстве торжествуют крайний рационализм, утилитаризм, утопизм, секуляризация религии, атеизм и др. Доминирует односторонняя ориентация на науку, научное (вернее, естественнонаучное) познание, при частичном или полном забвении гуманитарной сферы культуры и вненаучных форм познания. Период этот хронологически выходит за пределы XVIII века, достигая даже нашей современности.
Антиподом подобного просветительства и, по сути, его могильщиком стал, по убеждению автора, романтизм. Он принес с собой свободу и раскованность творчества, развитие духовных потенций личности. Но не только. Романтики, во-первых, утвердили историзм в понимании культуры, во-вторых, открыли многообразие национальных культур и их традиций (включая страны Востока), а в-третьих, возродили интерес к мифу и другим вненаучным формам и средствам познания. Именно здесь и получает полный простор Сверхчувственное. Далее эстафету антирационализма, антимиметизма и антиутилитаризма приняли и понесли, согласно автору книги, два философских направления – «философия жизни» (Ф. Ницше, А. Бергсон и др.) и экзистенциализм (прежде всего, ранний русский представитель этого течения Н.А. Бердяев). В области искусства и эстетики прямыми наследниками, «детищами» романтизма стали символизм и постмодернизм.
Как уже было сказано, циклическая концепция развития искусства, обосновываемая Н.А. Хреновым, обладает рядом принципиальных преимуществ по сравнению с другими, в частности, «прогрессистскими» теориями. Она вполне приемлема и эффективна как методологическая основа для анализа искусства. Но и она, как мне кажется, бытийствует не без своих слабых, уязвимых мест, по принципу: «наши недостатки суть продолжения наших достоинств». Вот некоторые мои замечания «на полях» к высказываемым автором положениям.
О Платоне и его «сквозной линии» в истории искусства и эстетики. Действительно, Платон едва ли не первый в истории философско-эстетической мысли критик «миметизма», что нашло свое продолжение через почти 2500 лет (!) в модернизме и авангарде рубежа XIX – XX веков. Его же по справедливости можно считать «отцом символизма» – на основе учения об идеях и их неполном, ухудшенном воплощении в чувственных вещах. Видимо, не случайным был и интерес (даже тяготение) к идеям Платона у Владимира Соловьева – главы русской религиозной философии и одновременно видного поэта-символиста. Тем не менее, едва ли вся новая духовность модернистского и авангардного искусства питается истоками объективно-идеалистической философии, классиком который является Платон. Не менее активную роль здесь сыграли и играют альтернативные, субъективно-идеалистические школы и направления. Кроме того, общеизвестны те жесткие рамки, в которые ставил Платон искусство, художественное творчество в своей социально-политической утопии, за что вполне обоснованно подвергался резкой критике. Поэтому, с моей точки зрения, едва ли стоит возводить антитрадиционализм художественного модернизма и авангарда именно к Платону.
О Просвещении. Разделяя с автором книги его общий критический пафос в отношении этой эпохи, я краешком сознания все же помню о том, что это – критика модерна с позиций уже постмодерна, а значит, истина не абсолютная, а относительная. Я говорю это ради того, чтобы оправданная критика идей Просвещения была не односторонней, по возможности, максимально адекватной. Николай Андреевич сам не раз поминает добрым словом Руссо, его резкую критику противоречий цивилизации; а Руссо ведь тоже представитель Просвещения. Нечто иное, чем то, что открылось М. Хоркхаймеру, Т. Адорно и Юргену Хабермасу (и что повторяется ныне многократно), увидел в «веке разума» М.М. Бахтин. В работе «Роман воспитания и его значение в истории реализма» (1936-1938 гг.) он, развивая свою концепцию «хронотопа», усмотрел начало разработки методологии историзма как раз в XVIII веке, который до некоторых пор было принято считать «не историчным» и даже «антисторичным» [2]. Можно указать и на ряд других достижений философской и эстетической мысли эпохи Просвещения, – существовавших в ней, правда, наряду с господствовавшими рационалистическими, утилитаристскими и т.п. тенденциями.
На соотношении модернизма и постмодернизма, как оно трактуется в книге, хотелось бы остановиться подробнее.
Н.А. Хренов художественный модернизм считает составной частью более широкого феномена «проект модерн» (по Ю. Хабермасу) – и, следовательно, еще не вырвавшимся из пределов «чувственной культуры». Только постмодернизм приносит с собой в искусство полную раскованность, плюрализм, радикальный антимиметизм, утверждение игрового принципа и т.д. Естественно, при таком подходе собственно художественному модернизму автор уделяет меньше внимания. Впрочем, и здесь читатель найдет немало метких наблюдений и проницательных суждений, относящихся к характеристике, например, футуризма и ряда других модернистских направлений.
Меньше внимания уделено модернизму в целом за одним исключением, которое, впрочем, перекрывает собой многие другие «недосказанности» и «недоговоренности». Я имею в виду статью в составе сборника (фактически это целый трактат) об эстетике русского символизма. Надо сказать, что освещение этой темы не слишком удавалось – не вполне удается и поныне – многим серьезным исследователям. Н.А. Хренову справиться с этой задачей, считаю, удалось. Страницы, посвященные и истории, и теории русского символизма, по широте охваченного материала, концептуальной целостности и доказательности выводов относятся к числу лучших в данной книге. При оценке этого подраздела следует учесть те сложности, которые предстояло преодолеть исследователю. Надо было раскрыть философскую основу воззрений символистов (проблема соотношения образа – знака – символа и др.); проследить эволюцию их воззрений и различия двух поколений в их рядах; наличие французских, немецких влияний, но и самостоятельность концепции русских символистов, и еще многое другое. Н.А. Хренову удалось справиться со всеми этими сложностями именно благодаря применению своей расширенной искусствоведческо-культурологической методологии. Согласно обосновываемому автором взгляду, символизм является главным нервом, главной матрицей в процессе появление других направлений русского модернизма и авангарда начала XX века. Именно он, считает ученый, подготовил революцию постмодернизма в искусстве. Символизм – пролог, преддверие великого «романтического» обновления; постмодернизм – его триумф.
Некоторые положения, высказываемые Н.А. Хреновым в его книге, мне хотелось бы безоговорочно принять, «сделать своими». С другими – пополемизировать в духе товарищеской дискуссии. А третьи желал бы продолжить далее – по-своему. Последнее относится, в частности, к высказанной им мысли об одновременности зарождения модернизма и постмодернизма.
К сходному выводу приходят и некоторые другие исследователи. Так, немецкий теоретик искусства Эрика Фишер-Лихте пишет: «Лично я исхожу из того, что основополагающие сдвиги, на которых базируется постмодернизм, свершились в конце XIX и в начале XX столетия. …Все эти данности, составляющие (в их совокупности) непременное условие постмодернистского творчества, обнаруживаются уже на рубеже XIX и XX вв., то есть в пору зарождения модерна». Что, добавляет она, отнюдь не означает призыва «нивелировать бесспорное отличие постмодерна от модерна» [3].
Мысль об одновременности возникновения модернизма и постмодернизма представляется мне заслуживающей серьезного внимания. В пользу ее можно привести ряд убедительных аргументов. Так, историки искусства обосновывают невозможность провести четкую хронологическую границу между двумя, казалось бы, последовательными этапами тем, что «явно постмодернистские» черты нередко обнаруживаются в творчестве художников гораздо более ранних, чем середина XX века. Соответственно, зачинателями философии и эстетики постмодернизма некоторые ученые считают не, как это принято, американских и французских теоретиков 1950-х – 1970-х годов, а, например, русских мыслителей начала XX века – Вяч. Иванова [4], Льва Шестова [5] и др. Тем самым время зарождения постмодернистских идей отодвигается вглубь истории, по крайней мере, на полвека.
Такая нестандартная трактовка вопроса ценна, далее, тем, что переносит акцент с временнóго, историко-эволюционного аспекта – на сущностный. Оба упомянутых направления возникли вместе в русле поиска новых форм и методов художественного творчества, но степень их радикализма в отказе от традиционного наследия была у них разная. Это и послужило причиной, основанием разновременности их широкого распространения и утверждения. (Модернизм – с рубежа XIX-XX веков, постмодернизм – с середины прошлого столетия).
Развивая далее идею разных степеней радикализма в новом искусстве, я бы предложил, с одной стороны, смягчить, смикшировать противопоставление классики и модернизма, а с другой, наоборот, подчеркнуть настоящий разлом, раскол между всем прежним искусством и инновационностью постмодернизма. Оснований для такой процедуры предостаточно.
Обычно обращают внимание на то новое, что принесло с собой то или иное модернистское течение. Но бунт модернизма отнюдь не нигилистичен, он сохраняет многие фундаментальные черты, особенности, общие ему с классикой. Таким образом, модернизм (включая сюда и авангард) – это переходный этап в развитии искусства, когда традиционное и новое соединяются, сочетаются, взаимно дополняя друг друга. Это соединение совершается в рамках единой (пока) парадигмы. Поэтому история модернизма и классики – одна, они – две фазы одного и того же, в сущности, феномена «искусство». На эти черты единства, как на некий «позитив», искусствоведы и эстетики тоже должны обращать свое внимание.
Авангард стремится выйти за пределы базисного феномена, именуемого «искусство». Но окончательно это удается только постмодернизму. Здесь пролегает водораздел. Постмодернизм являет собой искусство принципиально иного качества, базирующаяся на радикально иных основаниях, нежели вся предшествующая история художества. Хотим мы того или нет, но сам факт приходится признать. Кстати, в том, что искусство распалось на две несхожие между собой половины, я не вижу ничего противоестественного. Существуют же две геометрии – евклидова и неевклидова, две физики –ньютоновская и квантово-механическая… Если такое радикальное деление возможно в естествознании, то, почему, спрашивается, нечто подобное невозможно в искусстве и эстетике?
А.Ф. Лосев сущность Великого Поворота (или Переворота) в искусстве, начатого модернизмом и довершенного постмодернизмом, усматривает в изменении самого его предмета – и, соответственно, целей его освоения. «…Модернизм, – пишет он, – есть скорее ИСКУССТВО САМОГО ИСКУССТВА, изыскание таких художественных форм, которые были бы удивительны для самого художника и которые демонстрировали бы не рефлексию над жизнью, но рефлексию над самой рефлексией жизни». И еще: «… Здесь основным предметом изображения является не столько сама жизнь, сколько ее художественное изображение» – возведенное «в квадрат, куб и вообще в любую степень» [6]. В этой лосевской характеристике нет никакой предвзятости, никакого негатива в отношении к модернизму, что видно из такого, например, пассажа о Ромене Роллане: «Роллан жил в эпоху расцвета модернизма. Будучи весьма чутким писателем и постоянно стремясь все к новому и новому, мог ли он решительно стать в сторону от всякого модернизма и пренебрегать его несомненными достижениями? Нет, у Роллана этого не могло быть. Он весьма искренне отнесся к этому новому течению, глубоко понял его историческую необходимость, безусловно догадался об его длительном существовании (хотя работал, он, собственно говоря, «только в самом начале этого огромного течения»)» [7].
Как видим, у Лосева налицо констатация факта радикальной смены предмета искусства, начатой модернизмом и довершенной, как мы знаем, постмодерном. И еще один примечательный штрих: классика и модернизм для Алексея Федоровича не антиподы, а взаимодействующие феномены, подтверждение чему Лосев и его соавтор, Мина Алибековна Тахо-Годи, находят в творчестве Р. Роллана.
Естественно, радикально изменились и функции нового искусства. А.В. Быков в своей характеристике неклассического искусства неоднократно подчеркивает его «экспериментальный характер» [8]. Стало быть, нонклассика удовлетворяет совсем иные запросы, потребности реципиентов, нежели это имело место в прошлом. На первый план выходит игровая функция, столь глубоко укорененная в самой культуре. И т.д.
Мне известны радикальнейшие суждения Х. Ортеги-и-Гассета, признававшего все «права первородства» только за актуальным, сегодняшним искусством [9]. Но это представляется явной крайностью. Многие искусствоведы, эстетики, активно утверждающие подлинное новаторство нонклассики, тем не менее, признают сосуществование в современной культуре ряда разновидностей искусства.
При этом, однако, считается как бы само собой разумеющимся, что все три вышеназванных явления связаны поступательно, и классика с модернизмом являют собой лишь подготовительные этапы на пути к современному искусству постмодернизма. Но такой взгляд, по сути, возрождает ту самую линейную (точнее, однолинейную) концепцию развития, которая была ахиллесовой пятой просветителей XVIII века. В действительности культура, как правило, не отбрасывает «старое», превзойденное за ненадобностью; нет, оно продолжает существовать рядом с новым и в живом взаимодействии с ним. Разве что не на магистральном, а на периферийном положении и месте.
Н.А. Хренов видит закономерный характер возникновения философии и эстетики постмодернизма и в целом приветствует утверждение последней, хотя и делает оговорку, что общей методологией изучения искусства она служить не может. Классическую («Баумгартеновскую») эстетику автор книги не жалует. Он напоминает читателю, что и возникла-то она как своего рода компенсация одностороннего просвещенческого рационализма и, в конечном счете, так и не вышла за пределы устаревшей «чувственной культуры». Подлинно современной, уверен он, является только эстетика постмодернизма.
Однако возможен, полагаю, и другой взгляд на соотношение ключевых понятий «модернизм-авангард-постмодернизм», в чем-то совпадающий с позицией автора книги, а в чем-то расходящийся с ней. От смены ракурса видения может измениться и наша оценка классической эстетики: с преимущественно негативной она может стать (при учете всех ее исторических ограниченностей) достаточно позитивной.
Одним из значимых признаков художественного постмодернизма автор книги справедливо считает расширение, универсализацию предмета искусства, следовательно, и эстетики. Вопрос этот, однако, имеет несколько аспектов, каждый из которых заслуживает особого рассмотрения Н.А. Хренов позитивно расценивает наблюдающееся ныне стирание границ между художественным и утилитарным. Он опирается при этом и на авторитет знатока античности А.Ф. Лосева, который подчеркивал соединение у греков двух критериев – красоты и добротности изготовления вещи – в одно целое. Николай Андреевич напоминает попутно, что греки одним и тем же термином – технэ – обозначали созидание не только в так называемых «изящных», но и в любых других искусствах, включая медицинское, строительное, полководческое и др. И если в последующие века логика развития вела к разведению эстетической и практической установок (см. «Критику способности суждения» И. Канта), то в наше время происходит обратный процесс, возвращающий современных людей к истокам. Одним из выражений этого позитивного, по мнению автора книги, процесса, является сближение «духовных» искусств и дизайна. Все это так. Но даже если рассматривать эту «связку» исключительно в русле человеческой деятельности, то сам собой встает вопрос о границах художества как такового. Остаются ли они еще вообще, эти границы? Или понятие «искусство» ныне полностью слилось с «жизнестроением», с творчеством нового в чем бы то ни было? Можно ли сказать, например, что автор известной игрушки – «кубика Рубика», либо шахматного этюда, художник в традиционном смысле? Если это так, то тем самым понятие «художества», во-первых, размывается до неопределенности и, во-вторых, допускает крайнюю рационализацию. Что явно не соответствует возрождаемому, по убеждению Николая Андреевича, «духу романтизма».
Вопрос о новых границах предмета искусства Н.А. Хреновым специально не обсуждается. Зато некоторые другие авторы все же ищут исчезающую у нас на глазах специфику «художественного» и «эстетического». Среди них и современный авторитетный отечественный эстетик В.В. Бычков. В своих исканиях и суждениях он опирается на достижения мысли А.Ф. Лосева. Лосев считал художественно-эстетической не любую творчески созданную предметность, а – самоценную, т.е. воспринимаемую как самоценность. Такая предметность не служит никакой практической цели; вернее, она превосходит любую такую цель. Это – высшая форма неутилитарности, когда предмет вырван, обособлен из многообразия всех житейских связей и являет зрителю свою собственную природу в ее максимально чистом виде. В этом пункте мысли Лосева и его последователя В.В. Бычкова перекликаются с тем понятием «бытийствования вещи», о котором говорит М. Хайдеггер, в частности, в анализе картины Ван Гога «Крестьянские башмаки» (см.: М. Хайдеггер, статья «Исток художественного творения»). К самоценной неутилитарности эстетического предмета добавляется игровой характер художественного продукта. И далее Лосев уточняет, что такая самоценная предметность исторична, в каждую конкретную эпоху она социально обусловлена и модифицирована. (Этот последний тезис В.В. Бычков пытается оспорить, считая его всего лишь отголоском господствовавших марксистских влияний) [10].
Можно заявить, что такое определение спецификума художественного и эстетического еще недостаточно полно и строго – пусть так. Но оно, во всяком случае, означает шаг в правильном направлении. А без его, так сказать «шлифовки» мы рискуем вовсе утратить границы искусства, сравняв его с любой инновационной творческой деятельностью, в том числе интеллектуальной и рассудочной.
Циклизм при объяснении рождения нового в искусстве захватывает возвратные движения художников и теоретиков к реалиям давно минувших веков и тысячелетий, что само по себе оправданно, эвристично и ценно. Этот прием эффективно использован Н.А. Хреновым применительно к анализу искусства авангарда. Вместе с тем, на мой взгляд, невольно возникает тенденция к зацикливанию исследователя то ли на одном, то ли другом из прошедших этапов истории искусства, причем последний заметно идеализируется. Мне кажется, именно этим можно объяснить пристрастное отношение автора книги к эпохе средневековья. Оно (средневековье) для него являет собой образец торжества «сверхчувственного» (что можно прочесть и как призыв вернуться к нему). Здесь весьма кстати оказываются и положение эстетики Владимира Соловьева о том, что возродить больное искусство его времени можно только слиянием художества с религией, и идея Н.А. Бердяева о «Новом Средневековье», и еще кое-что в том же роде. С уважением относясь к религиозном искусству, я все же полагаю, что религия не исчерпывает собой потенциал одухотворенности (= сверхчувственности, «сакральности») искусства.
Аналогичная пристрастность ощущается и в авторской характеристике эстетики постмодернизма. Рассматривая постмодернизм как максимально полное развитие потенций, заложенных в романтизме, тем самым помещая его эстетику на вершину художественно-эволюционного процесса, он в некоторой степени принужден идеализировать и представление о ней. В ее «позитив» он с полным основанием включает присущие этому течению признаки: антидогматизм, антиканоничность, плюрализм; полистилистику; смелое экспериментаторство в области формы и содержания; перестройку всех звеньев цепи художественной коммуникации (автор – творческий процесс – артефакты – реципиент – социокультурный контекст – процесс восприятия) и др. Все это, действительно, сущностные черты эстетики постмодерна. Но есть у нее и свои ограниченности, однобокости, которые тоже нельзя не учитывать. Так, неклассическая эстетика (обычно отождествляемая с постмодернистской теорией творчества) имеет явно усеченный характер, и усеченный, увы, за счет эмоциональной сферы. Самое убедительное тому подтверждение – отношение постмодернистской эстетики к категориям трагедии, трагического как такового и трагического катарсиса.
Теория постмодернизма вообще элиминирует классические эстетические категории, заменяя их паракатегориями, адекватными только неклассическому авангардному искусству. Впрочем, к «прекрасному» так или иначе приходится возвращаться: как – никак ныне успешно развивается экологическая эстетика, а в ней без критерия красоты, прекрасного не обойтись. Классическая категория «возвышенного» тоже жива, ибо работает на обоснование авангардного искусства (например, у Ж.-Ф. Лиотара). Категория «смешного» («комического»), пусть достаточно односторонне – через иронию, абсурд и т.п. атрибуты современности, – но все же включена в понятийный комплекс постмодернизма. А категория «трагического» постмодернизмом отвергается начисто.
Известный аналитик – теоретик постмодернизма В.В. Бычков высказался на этот счет недвусмысленно, без обиняков: «В лучшем случае мы можем говорить о тех или иных элементах трагического в искусстве XX в., но не о трагическом в его классическом смысле. Современная неклассическая эстетика, выдвинув почти на уровень категорий такие понятия, как абсурд, хаос, жестокость, садизм, насилие и им подобные, практически не знает ни категории, ни феномена трагического» [11]. «Принципиальный отказ посткультуры (втор. пол. XX в.) от эстетического в принципе, от художественно-эстетического измерения в искусстве (в современных практиках) закрывает для ее субъектов и катарсический путь в сферы Духа, прорыв материальной оболочки бывания, на что собственно посткультура и не претендует, ограничив свое онтологическое пространство телом и телесностью, вещью и вещностью» [12].
Обосновывается процитированное здесь тем, что для сознания современного человека одухотворенный, очистительный катарсис якобы уже невозможен. В результате тысячелетняя линия развития трагического, проходящая от великих трагиков Древней Греции и Аристотеля, через Шекспира, Лессинга, Гегеля, Кьеркегора и Ницше, отныне прерывается. Она не заслуживает даже приличных похорон и реквиема. – Но, может быть, такой вердикт справедлив лишь для «постчеловека», действительно, крайне обедневшего эмоционально, а категория трагического все еще небеспочвенна и жива?
Искусство и эстетика без трагического обезэмоционалены. Так рационализм, будто бы выставленный эстетиками за дверь, пытается взять реванш и вновь проникнуть в теорию искусства – через окно и черный ход.
В отношении эстетики постмодернизма к трагическому наиболее явно обнаруживается локальный, а не универсальный ее характер. Феномен трагического не исчез ни из современной жизни, ни из ее искусства. Просто он не охватывается постмодернистской эстетикой. Осознание этого восстанавливает в правах именно «классическую («аристотелевскую») эстетику», как равноправную и дополнительную по отношению к постмодернистской.
Нельзя не заметить еще одного важного следствия, вытекающего из «смены чувственной культуры – сверхчувственной» (смены, положенной в основу циклической модели). Если искусство допостмодернистское было так или иначе обращено к действительности, Природе (у адептов Просвещения можно найти настоящие гимны в ее честь), то теперь акцент перенесен на собственно человеческую деятельность. А самым революционным, творческим в ней как раз и является искусство. Эта смена ориентаций не была абсолютно спонтанной. Зерно конфликта двух тенденций – условно говоря, онтологической и деятельностной – было заложено уже в «Эстетике» Баумгартена, объединившей под своей эгидой такие разнородные сферы бытия, как чувственное взаимоотношение человека с целым миром (Космосом, Универсумом), с одной стороны, и область творческой деятельности самого человека «по законам красоты», с другой Постмодернизм без колебаний и сожалений отсек первую половину предмета баумгартеновской эстетики. Было возрождено гегелевское определение эстетики как «философии искусства». О том, что это было оправдано у Гегеля его идеализмом, третировавшим природу, все материальное как неодухотворенное, обычно умалчивается. Также умалчивается и о полемике с гегелевско-фишеровской эстетикой Н.Г. Чернышевского, отстаивавшего наличие всего спектра эстетических явлений и вне искусства.
Следует признать, что неклассической эстетике постмодернизма удалось защитить от нападок и утвердить то, кажется, самое ценное, чем дорожит человек, – его творческую свободу, а заодно и инновационное искусство как ее продукт, устремленный в будущее. Однако одновременно с этим постмодернистская эстетика отвернулась от мира природы, действительности в широком смысле. И если она все же смотрит на Вселенную, то только через призму все того же новейшего искусства и его паракатегорий…
Велика ли потеря? Судите сами.
И, Слава Богу, что старая добрая «аристотелевская» эстетика все еще сохраняет в силе систему эстетических категорий, выработанную исторически для охвата различных сфер и граней действительности и их «самоценного» переживания.
Выравнивание, как мы предполагаем, статусных прав художественно-эстетической классики, модернизма (с авангардизмом) и постмодернизма побуждает обратить внимание на множество творческих связей, взаимовлияний и опосредований между составными частями, или гранями, этой «триады». Обычно искусство постмодернизма рассматривается в контексте его собственной парадигмы, т.е. в поле так называемой «посткультуры». Здесь оно занимает особое место, выполняет специфические функции как по разрушению всего традиционного, так и по разработке путей и выходов к пост-посткультуре будущего. Однако представляется правомерным рассматривать художественный комплекс постмодернизма и более отвлеченно, «формализованно», как совокупность принципов и приемов творчества, используемых вне данной социокультурной ситуации и, следовательно, вне адекватной ей эстетической парадигмы. При таком подходе постмодернизм становится совокупностью художественных приемов, образующих некий специфический стиль, реализуемый на самом разном историко-художественном материале. Именно так рассматривает постмодернизм один из его представителей в литературе – Умберто Эко в своих «Заметках на полях “Имени розы”». «…Я сам убежден, что постмодернизм – не фиксированное хронологическое явление, а некое духовное состояние, если угодно Kunstwollen – подход к работе, – пишет У. Эко. – В этом смысле правомерна фраза, что у любой эпохи есть собственный постмодернизм… Наступает предел, когда авангарду (модернизму) больше идти некуда… Раз уж прошлое [«прошлое давит, тяготит, шантажирует»] невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить: иронично, без наивности». Так У. Эко генерализует понятие постмодернизма («постмодернистами можно называть Стерна и Рабле и безусловно – Борхеса…»), и далее последовательно перечисляет и описывает характерные черты, слагаемые такого стиля [13].
Не знаю, вправе ли я привести еще один наглядный пример использования постмодернизма как совокупности стилистических приемов. Дело в том, что пример этот представлен в тексте, находящемся дважды за пределами современной российской культуры. В ее андеграунде. Во-первых, как ориентированный на самое циничное (хотя и искусное) использование русского мата. И, во-вторых, как оппозиционный по отношению к происшедшим в России социально-политическим преобразованиям. Я имею в виду книжку анонимного автора под названием «Это я, Боринька», изданную у нас в «лихие 90-е годы», после отмены цензуры. В одном из номеров журнала «Свободная мысль – XXI» эта публикация, помнится, была названа «книгой пародий». Такое прочтение правомерно лишь отчасти; в сущности, это художественный памфлет, развенчивающий тогдашнюю перестройку и ее «архитекторов». В целях высмеивания своих идейных оппонентов небесталанный безымянный автор постарался использовать все «наработки» комических жанров за многие столетия, от Аристофана до Рабле, до русских мастеров смеха – Гоголя, Щедрина, Чехова и др. Ядовитость такого осмеяния несколько сглажена тем, что текст написан как бы вдогонку к уже свершившимся событиям. Для меня здесь важно отметить, что текст книжки организован по принципам эстетики постмодернизма, но на самом далеком и враждебном аутентичной его парадигме материале. Т.е. стилистика постмодернизма, как показывает даже этот курьезный пример, может совмещаться с самым различным как традиционным, так и нетрадиционным материалом.
Р.S. Сейчас вышеупомянутое изделие «матерщинника» находится вне культуры как таковой. Но как знать, спустя десятилетия не будет ли оно втянуто в ее общепризнанное лоно – как это случилось с текстами Маркиза да Сада, творившего в XVIII веке, а «допущенного» в культурный ареал только в веке XX?
Рассмотрение художественно-эстетической классики и модернизма, с одной стороны, и постмодернизма – с другой, как принципиально различных, но одновременно действующих и равноправных контрагентов открывает перспективу для обсуждения ряда нетривиальных вопросов, ранее пребывавших в тени. Один из таких вопросов – отношение к так называемому «нормальному искусству».
Если, как полагают многие, единая линия эволюции мирового искусства идет по нарастающей степени новизны от классики к модернизму, авангарду и далее к постмодернизму, то все, находящееся не на этой магистрали, является устаревшим и не заслуживающим внимания серьезного исследователя, устремленного вперед, к искусству будущего. Подобное «искусство вчерашнего дня» принято третировать свысока. Например, А.С. Мигунов, искренний приверженец самых радикальных инноваций в искусстве, избрал для своего предисловия к сборнику «Маргинальное искусство» такие красноречивые эпиграфы: «Очень общим образом скажем, что нормальность есть общепринятость и вытекает из капитуляции» (Мишель Тевоз); «То, что мы именуем «нормальным», является результатом подавления, отречения, разъединения, распада, проекции, интроекции и прочих разрушительных форм воздействия опыта» (Рональд Д. Ленг) [14].
А ведь что собой представляет на деле это «нормальное искусство»? Оно означает формы творчества, когда-то тоже бывшие новаторскими, в чем-то экспериментальными, но затем освоенные и признанные не только значительным кругом художников, но и публикой. На долю такого искусства приходится, пожалуй, львиная доля составляющих современной художественной культуры. Так есть ли причины относиться к такому «нормальному искусству» пренебрежительно, свысока? По большому счету, таких причин нет и, я думаю, надо изменить наше отношение к подобной «классике» на самое уважительное. Она не претендует на эпатаж, сенсационность и т.п., но именно она закладывает, по моему убеждению, главные основы духовности наших современников, соотечественников.
Одним из главных преимуществ циклической теории развития, с ее экскурсами в минувшие, даже архаические эпохи культуры, является, как неоднократно подчеркивает автор обсуждаемой книги, открывающаяся возможность «видеть на большие расстояния». И действительно, многие глубинные закономерности культурной и художественной эволюции выявляются лишь при широкоохватном и дальнозорком взгляде на цепь событий. Циклическая теория тем и хороша, что позволяет взглянуть на эту цепь «с птичьего полета». Здесь открывается широкое поле для усмотрения различных параллелей, аналогий, перекличек между отдаленными во времени эпохами (что сам Н.А. Хренов неоднократно с успехом осуществляет). Но в такой методологии таится и одна реальная опасность: отрыва культурологической рефлексии от более конкретной социологической, или, вернее, историческо-социологической подосновы. Как обстоит дело с этим у нашего уважаемого автора? Всегда ли ему удается успешно провести свою исследовательскую ладью между Сциллой и Харибдой?
В рассматриваемой книге представлены – не побоюсь этого слова – отличные исследования по различным аспектам истории русской культуры, в которых охват широкой культурный перспективы органически слит с детальнейшим анализом социально-исторического, социально-психологического и т.д. контекста. Назову для наглядности лишь некоторые темы этих работ: субкультура русского дворянства и переход в ней от «человека играющего» к «человеку творящему»; игровые аспекты военной культуры императорской России; масонство как субкультура и ряд других. В работах этого круга читатель отчетливо видит, что их автор не только культуролог с широким кругозором и завидной эрудицией, но и социолог, историк, прекрасно владеющий всеми приемами научного анализа событийных реалий. И все же в этом пункте авторское «Я», как мне кажется, раздваивается. Ибо когда автору приходится касаться чего-либо из истории России советского периода, с ним происходит метаморфоза. Здесь мы наблюдаем, как историк культуры и искусства пытается, образно говоря, решить свои задачи как бы без помощи аналитика-социолога и аналитика-историка.
В лексиконе автора есть несколько терминов, не требующих никаких пояснений, анализов и т.п., поскольку они обозначают, с его точки зрения, абсолютное зло. Вот они: «большевизм», «государство», «власть», наконец, самое финальное – «тоталитаризм». После их произнесения все становится понятно и так. Есть еще одно одиозное понятие – «империя»; для него, однако, делается некоторое исключение. Периоды роста могущества империй, когда они решают некие позитивные исторические задачи, автор оставляет, как правило, без внимания. Зато его влекут к себе ситуации кризиса, надлома и разрушения империй, которые – здесь он вполне прав – изобилуют множеством возможностей для творения нового в культуре и искусстве.
Совершенно очевидно, что политика правящих кругов советского государства в отношении искусства нанесла множеству причастных к этой сфере людей, специалистов тяжелейшую психологическую травму. (Кстати, советская власть едва ли не в полном объеме использовала все те меры удержания искусства «в ежовых рукавицах», которые сформулировал еще Платон в своей социальной утопии. Да, да, тот самый Платон, который всегда упоминается Николаем Андреевичем в позитивном контексте как основоположник спасительного курса на сверхчувственное.) Память о тех испытаниях и утратах, через которые пришлось пройти многим честным, неконъюнктурным художникам, историкам и теоретикам искусства, до сих пор ранит сердце нынешних деятелей культуры и искусства. До скрупулезного ли анализа им всех обстоятельств и реалий тех лет? Едва ли. Конечно, можно сделать исключение для истории русского авангарда 1910-х-1920-х годов, для «оттепели» середины 1950-х; может быть, еще для каких-то локальных периодов; но в целом-то «и так все ясно…»
Понять причины такого «раздвоения» «Я» я могу. Оправдать его без рассуждений – нет. С таким донельзя упрощенным, обедненным понятийным арсеналом раскрыть подлинное величие и трагизм советской истории, полагаю, не дано никому.
Отдав некоторую дань такому обычному в искусствоведческой среде взгляду, Н.А. Хренов, вопреки этому, проявил и незаурядную широту своих воззрений, способность преодолевать расхожие идеологизированные штампы. «При подготовке учебного пособия и хрестоматии по эстетике и теории искусства XX в. мы думали, – пишет он, – включать ли в них тексты теоретиков-марксистов и представлять ли марксистскую мысль в эстетике XX в., но так и не решились это сделать» [15]. Эти колебания, однако, не помешали ему при выявлении истоков авангарда обратиться к капитальному труду эстетика-марксиста (конечно, не догматического) Георга Лукача «Своеобразие эстетического» (1963, рус. перевод 1985-1987). Николай Андреевич находит созвучие своим мыслям, своей циклической концепции в целом ряде положений венгерского эстетика. Особенно близка ему мысль Лукача о том, что в обыденном мышлении продолжают функционировать элементы религиозного, магического мышления, «а мы (т.е. Н.А. Хренов. – В.К.) бы добавили: мистического, мифологического, фольклорного мышления; а вместе со всеми ними – и элементы древних форм художественного мышления, не обладающие на ранних этапах самостоятельностью и самоценностью, но зато сохраняющие сакральные и сверхчувственные смыслы» [16]. На этой почве, из этой почвы и возник авангард. «…В новом искусстве… он (Лукач. – В.К.) как философ угадал главное, что бессильны выявить в них его поклонники и противники марксистской эстетики» [17]. Где здесь принципиальное неприятие инакомыслия, иных воззрений, нежели свои собственные? Его нет, оно растворилось в потоке общей, ищущей творческой рефлексии.
По ходу дела одно маленькое уточнение. Во втором, расширенном издании упомянутого выше учебного пособия по эстетике и теории искусства глава о вкладе Лукача была-таки помещена. Написана она автором этих строк, а заказал ее мне сам Николай Андреевич как ответственный редактор всего издания. Этот факт едва ли нуждается в комментариях [18].
* * *
В заключение хочется сказать еще несколько слов о труде Н.А. Хренова в целом. «Искусство в исторической динамике культуры» – это не та книга, которую можно проглотить, просмотрев по диагонали, выхватив главное. В ней все – главное. Она выдержанна концептуально, а с каждым отдельным ее аспектом или слагаемым надо разбираться особо и обстоятельно. Я думаю, читателю придется возвращаться к ней вновь и вновь, выверяя все узловые пункты обрисованной выше «циклической концепции развития культуры и искусства», еще раз продумывая эвристический потенциал авторских идей, взвешивая арсенал его аргументации.
Выход в свет книги Н.А. Хренова – большое, незаурядное событие не только (как я полагаю) в отечественной культурологии, но и в искусствознании и эстетике. Поднятые в ней вопросы не просто поставлены, обозначены, но и разработаны фундаментально на уровне современной философии, искусствознания, эстетики. Внесенный Н.А. Хреновым вклад в дальнейшее развитие этих дисциплин значителен и неоспорим, его трудно переоценить. В критической ситуации раскола наук об искусстве на «классику» и «нонклассику» (ориентированную исключительно на инновационность авангарда и постмодерна) ученый предложил плодотворный выход из создавшихся здесь «тупиков». Главное, он показал реальную альтернативу, во-первых, искусствоведческому изоляционизму, пуризму – раскрытием богатейшего потенциала культурологической рефлексии, и, во-вторых, альтернативу наивному просветительскому однолинейному «прогрессизму» – за счет утверждения новой, «возвратно-циклической» модели культурной и художественной эволюции.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Хренов Н.А. Искусство в исторической динамике культуры. М.: Согласие, 2015.
[2] Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 204-206.
[3] Фишер-Лихте Э. Постмодернизм: продолжение или конец модернизма? // Германия. XX век. Модернизм, авангард, постмодернизм / ред.-сост. В.Ф. Колязин. М.: РОССПЭН, 2008. С. 157.
[4] Самохвалова В.И. Вячеслав Иванов и русский постмодернизм // Самохвалова В.И. Эстетические этюды. М.: «ИИнтеЛЛ», 2013. С. 409.
[5] Крутоус В.П. К истокам постмодернизма: философский бунт Льва Шестова // Крутоус В.П. Эстетика и время. Книга взаимоотражений. СПб.: Алетейя, 2012.
[6] Лосев А.Ф., Тахо-Годи М.А. Эстетика природы. Природа и ее стилевые функции у Р. Роллана. Киев: Collegium, 1998. С. 200-202, 225-226.
[7] Там же. С. 225-226.
[8] Бычков В. Постнеклассическая философия искусства. Система основных понятий // Искусствознание. 2010. № 3-4.
[9] Ортега-и-Гассет Х. Искусство в настоящем и прошлом // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991. 588 с.
[10] Бычков В.В. Русская теургическая эстетика. М.: Ладомир, 2007. С. 351-353.
[11] Бычков В.В. Эстетика. Учебник для вузов. М.: Академический проект, Фонд «Мир», 2011. С. 212.
[12] Бычков В. Катарсис / Философия: энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики, 2006. С. 362.
[13] Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Эко У. Имя розы. Роман. М.: Книжная палата, 1989. С. 460- 461.
[14] Мигунов А.С. Предисловие // Маргинальное искусство. М.: Издательство Московского университета, 1999. С. 5.
[15] Хренов Н.А. Указ. соч. С. 308-309.
[16] Там же. С. 321.
[17] Там же. С. 318.
[18] Очерки эстетики и теории искусства XX века / Отв. ред. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. М.: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2013. 688 с.
© Крутоус В.П., 2018
Статья поступила в редакцию 16 ноября 2017 г.
Крутоус Виктор Петрович,
доктор философских наук, профессор
Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова
e-mail: victorkrutous@gmail.com

ISSN 2311-3723
Учредитель:
ООО Издательство «Согласие»
Издатель:
Научная ассоциация
исследователей культуры
№ государственной
регистрации ЭЛ № ФС 77 – 56414 от 11.12.2013
Журнал индексируется:
Выходит 4 раза в год только в электронном виде
Номер готовили:
Главный редактор
А.Я. Флиер
Шеф-редактор
Т.В. Глазкова
Руководитель IT-центра
А.В. Лукьянов
Наш баннер:

Наш e-mail:
cultschool@gmail.com
НАШИ ПАРТНЁРЫ:
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Культуру культуры» обязательна.
© Научная ассоциация исследователей культуры, 2014-2024







