НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Научное рецензируемое периодическое электронное издание
Выходит с 2014 г.

Гипотезы:
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Э.А. Орлова. Антропологические основания научного познания
Дискуссии:
В ПОИСКЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (рубрика А.Я. Флиера)
А.В. Костина, А.Я. Флиер. Тернарная функциональная модель культуры (продолжение)
Н.А. Хренов. Русская культура рубежа XIX–XX вв.: гностический «ренессанс» в контексте символизма (продолжение)
В.М. Розин. Некоторые особенности современного искусства
В.И. Ионесов. Память вещи в образах и сюжетах культурной интроспекции
Аналитика:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
А.Я. Флиер. Социально-организационные функции культуры
М.И. Козьякова. Античный космос и его эволюция: ритуал, зрелище, развлечение
Н.А. Хренов. Спустя столетие: трагический опыт советской культуры (продолжение)
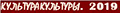

Н.А. Хренов
Революция и культура:
десакрализация революции в российском кино рубежа XX-XXI вв.
(продолжение)
Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар,
над умами живых»
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 7. М.: Политиздат, 1957. С. 119)
Аннотация. В статье рассматривается процесс постепенной, сначала осторожной демифологизации, а затем все более откровенной десакрализации революционных событий 1917 г., что получило наиболее наглядную интерпретацию в произведениях отечественного кинематографа. Первые шаги на этом пути были сделаны еще в советское время, а уже в постсоветское десакрализация революции стала одной из основных тем кино.
Ключевые слова. Революция, демифологизация, десакрализация, кинематограф.
5. Кино последних десятилетий ХХ века в функции десакрализации революции. Десакрализация революции как проблема коллективной идентичности
Следует констатировать, что положение в последние десятилетия меняется. В том-то и дело, что первоначально революция сакральный смысл упраздняет. Это следствие изменений в коллективной идентичности. В фильмах о революции уже меньше звуков фанфар и больше размышлений, подчас даже пессимистических. Но ведь, как уже отмечалось, революция стала основой нашей коллективной идентичности. Разрушается с помощью фильмов героическая и оптимистическая аура революции, следовательно, развертываются подспудные разрушительные процессы, связанные с коллективной идентичностью. Она тоже разрушается. Но это латентный процесс. Мы его не замечаем и осознать не готовы. Но это может привести к непредсказуемым последствиям. Русская революция уже в который раз подводит к краю бездны.
Конечно, сдвиги в интерпретации революции в современном кино очевидны. Первое, что бросается в глаза, когда речь идет о фильмах, посвященных революции, это несходство между фильмами, созданными в первой половине ХХ века и фильмами, появившимися с эпохи оттепели. Причем, волна фильмов о революции и, в частности, о Ленине, появившаяся в 1960-е годы, была спровоцирована вот этим самым вопросом об отношении каждого человека к революции, что был задан в фильме М. Хуциева. А сам этот вопрос возникает в связи с появившимися сомнениями и даже, более того, с неприятием революции. Это обстоятельство нельзя не учитывать. Иначе как объяснить тот истерический пафос, что имеется в фильме, например, Ю. Карасика «Шестое июля» (1968). Пропаганда, естественно, не дремала. Нужно было новое прочтение революции. Тот идеализированный ее образ, что торжествовал в авангарде 1920-х годов и в наиболее ярком виде проявился в фильмах С. Эйзенштейна, был уже как бы и неуместен. Нужно было спасать ауру революции и саму революцию с помощью введения в этот сюжет негатива. Но и находить в ней все же положительное. Так начинается эпоха М. Шатрова – автора сценария упомянутого фильма Ю. Карасика. Сюжеты М. Шатрова о революции и о Ленине определили целую эпоху – предгорбачевскую. Да и то следует признать, с каким трудом они пробивались на экран и на сцену. Достаточно здесь вспомнить хотя бы историю со спектаклем «Так победим» во МХАТе.
Для этого периода показательным, пожалуй, явился 14-серийный фильм В. Титова «Жизнь Клима Самгина» (1988). По одноименному роману М. Горького, который, как считается, является одним из загадочных в творческой биографии писателя. Позиция главного героя этого романа – быть не активным участником, а только наблюдателем нарастающего в России революционного возбуждения и бессмысленных жертв – как нельзя лучше иллюстрировала психологию зрителя 1980-х годов, утерявшего те критерии оценки революции, которые пропаганда продолжала по инерции культивировать. У В. Титова нет резкого противопоставления своих и чужих, а есть ощущение приближающейся катастрофы, которая расставит всех на противостоящие друг другу и истребляющие друг друга силы. Он видит еще страну, народ, но не революцию как грядущую катастрофу.
Новый период в истории отношения к революции возникнет вместе с перестройкой. Он и должен был возникнуть, ведь имеет место новое отношение к тому, кто всегда, и на экране, и в жизни был врагом, т.е. к белогвардейцу. Гражданская война как трагедия русских. У каждой из противостоящих сил своя правда. И те, и другие своей целью ставили спасение России, как они его понимали. Вот бы вместо вооруженного столкновения да вызвать бы к жизни две партии, как в иных странах. Так нет же: тоталитарное сознание массы продиктовало однопартийность. Сами себя загнали в ловушку на многие десятилетия.
Может быть, из последних фильмов о революции можно выделить четыре. Это «Белая гвардия» С. Снежкина, «Жила-была баба» А. Смирнова, «Тихий Дон» С. Урсуляка, «Солнечный удар» Н. Михалкова. На самом деле, таких фильмов больше. Взять хотя бы фильм С. Урсуляка. Сравним его с фильмом С. Герасимова по тому же шолоховскому роману. Совершенно очевидно, что одна и та же история в этих фильмах подается по-разному. Если в фильме С. Герасимова большевики предстанут своего рода «культурными героями», созидающими новый коммунистический космос, то у С. Урсуляка те же персонажи предстают скорее антигероями. Они убивают так же жестоко и так же часто, как и белогвардейцы. Так кинематограф передает суждение, которое можно было найти еще в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». Там сказано: «Изуверства белых и красных соперничали по жестокости, попеременно возрастая одно в ответ на другое, точно их перемножали. От крови тошнило, она подступала к горлу и бросалась в голову, ею заплывали глаза» [19].
Никому, ни красным, ни белым, С. Урсуляк предпочтения не делает. По сути, речь в фильме идет о трагедии расколовшейся нации, о ситуации варварского самоистребления народа в эпоху гражданской войны как продолжения революции. В результате такой кровавой вакханалии самоистребления страдают и погибают люди, призванные трудиться на своей земле, пахать и сеять, которые делать этого не могут. Они все втянуты в вихрь революции, в утопический, а точнее, антиутопический виртуал взаимоистребления. Их все время втягивают в противостояние, отвлекая от труда. Такова весьма красноречивая судьба Григория Мелехова, который оказывается то в стане белых, то в стане красных. Но его крестьянская психология чужда и тем и другим. Его дело трудиться, а не расстреливать, что требует от него противостояние сил.
Люди с ружьем и сами перестают трудиться и не дают этим заниматься простым людям. Вот и И. Бунин констатирует: «Поголовно у всех лютое отвращение ко всякому труду» [20]. Драма состоит в том, что революция не просто не дает заниматься трудом, но и отучает от него, что потом будет иметь последствия. Происходит, как выражается П. Сорокин, деформация трудовых рефлексов. Возникает иллюзия, что революция всех накормит. Но рано или поздно приходится возрождать рефлекс труда, иначе общество оказывается в опасности. «Если условные «тормоза лености» угасли и стали бездейственными, – пишет П. Сорокин, – то на сцену выступают эти жестокие стимулы труда и ставят революционному обществу ультиматум: трудиться или… вымирать от голода, холода и нужды. Общество или вымирает, или принимает ультиматум. Эти «учителя» приучают его к работе – и косвенно, и прямо – через власть общества, все равно какую – белую или красную. С беспощадностью рабовладельцев она начинает принуждать к каторжному труду “свободных людей, низвергших рабство”» [21].
Здесь, конечно, не может не возникнуть мысли не только о судьбе революции, но и о судьбе российской цивилизации. Как вернуть «бунтующему человеку» рефлекс труда? Мы много знаем о жестокости Сталина, но не всегда отдаем отчет в том, что он, чтобы спасти положение, прибегал к изуверским и нечеловеческим методам, чтобы вернуть поколение революции к труду. Оправдания его действиям быть не может. Но следует хотя бы понять, почему он это должен был делать, поскольку НЭП был отвергнут. И это есть тоже последствия революции. Та вина, что лежит на отечественных либералах, потерпевших поражение в Февральской революции, не связана лишь с политикой, со слабостью власти преодолеть анархию и вводить жесткую власть. Эта вина связана еще и с полным развалом хозяйства, с утратой рефлекса труда, на что обратил внимание также А. Солженицын. «В той революции произошла поразительная вещь, – пишет А. Солженицын, – наступила неограниченная свобода, настолько неограниченная, какой не знала Европа ни в какой момент своей жизни. Причем эта свобода, принесенная Февралем, быстро, в течение недель, распространилась сверху вниз. И вот простые рабочие могли работать, а могли и не работать, требовать себе денег и не работать. Могли бить своих мастеров и инженеров. Солдаты могли убивать офицеров, бросать фронт. Крестьяне – сжигать поместья, разносить по кусочкам, что находится в поместье, или мельницу разбить» [22].
Большевики получили от либералов именно эту проблему, пытаясь ее разрешить самым жесточайшим образом. В многочисленных исследованиях о революции освещения не получила еще одна тема, связанная с ее последствиями. Эти последствия не объясняются лишь необходимостью власти железной рукой навести порядок, чтобы вернуть утраченный рефлекс труда. Наведение жестокого порядка как необходимость, ибо вопрос стоял уже о выживании народа, вызвало к жизни число обиженных и недовольных. Подспудно происходило распространение настроений, направленных против власти. Это настроение развертывалось помимо партийных и политических платформ. Оно развертывалось в форме назревающего и традиционного для России бунта. Это настроение недовольства распространялось в массе. Власть, естественно, не могла не ощущать это движение к бунту. Что это такое, она уяснила, пытаясь жестоко погасить бунт в тамбовских деревнях и в Кронштадте. Аресты недовольных участились. Огромное число недовольных оказывалось в тюрьмах.
Но наивно было бы думать, что осужденные оставались изолированными от остального населения. Развертывалось общение между теми, кто пребывал за решеткой, и теми, кто в перспективе мог там оказаться. Казалось бы, недовольство охватывало лишь людей за решеткой. На самом деле оно было всеобщим. Нарастала разиновщина в ее новой форме, та разиновщина, которая имела место в революции 1917 года, и та, что ей предшествовала. А что, ведь было ясно, что возведенная Сталиным империя, как, собственно, некогда и царская империя, оказалась в кризисе. А революции, как утверждает А. де Токвиль, происходят не тогда, когда народу становится особенно тяжко, а когда он уже имел возможность ощутить реальность свободы. И это произошло еще в революции. Вроде бы что-то подобное и возникало на ранних стадиях революции. Позднее В. Шукшин, пытаясь пробить свой замысел фильма о Степане Разине, этого не мог не ощутить. Проведенная им параллель между ХVII и ХХ веками многое объясняла. Массовый бунт, требовавший изживания, казалось, был неотвратим.
Этому помешала лишь Вторая мировая война, в которой бунтарские настроения угасли, как они угасли в свое время в ходе самой революции. Ressentiment проявился уже в героических формах, он был направлен по другому руслу. Происходила какая-то странная сублимация – недовольство, спровоцированное жестокостью власти, проявлялось в героических формах во время Второй мировой войны. Но то, что стоит за этими героическими деяниями, не всегда проходит через сознание. Остается лишь героическое проявление ressentiment. Это и обязывает задать вопрос – разве массовое поведение всегда является преступным и разрушительным, как это утверждал один из первых социальных психологов С. Сигеле? Почему, собственно, революцию мы сводим к чему-то вроде массового безумия, к коллективному разрушительному инстинкту? Разве та же самая революция не демонстрирует обращающий на себя внимание массовый героизм?
Г. Лебон, как первый из социологов, внесший значительный вклад в понимание психологии массы, тоже не отрицал реальности подобного массового героизма. Если С. Сигеле настаивал на разрушительном инстинкте массы как доминанте, то Г. Лебон такой героизм допускал. Но даже если его в действительности не было, то его можно создать. Такие вот героические симулякры. Но порождением фантазии оказались не просто героические образы, но и вся революция. Может быть, впечатывание образа Сталина в массовое сознание и его нарастающая реабилитация уже в наши дни, несмотря на отрицательное к нему отношение особенно со стороны интеллигенции, что тоже получает выражение и в фильмах, объясняется тем, что в экстремальной ситуации, когда в результате надлома российская цивилизация могла и не выжить, он, как новый «культурный герой» «творческий ответ» находит.
Только вот этот «творческий ответ» обошелся русскому народу весьма недешево. Ведь в мирное время он загубил еще больше человеческих душ, чем принесли с собой революция и гражданская война. Загубил, заставив расслабившуюся массу, питавшую надежду, что революция ее накормит, как говорится, вкалывать, причем, под конвоем, превратив ее в массу заключенных. Тот рабский труд, на который некогда был обречен взбунтовавшийся, но затем успокоившийся и со всем смирившийся народ, был намного более бесчеловечным, чем труд в старой империи. А что диктатору было делать? Повторять интеллигентскую позицию Керенского? Как можно представить, Сталин, как он мог сам думать, спасал цивилизацию ценой принесения в жертву большей части представляющего эту цивилизацию населения. Ведь эту цивилизацию революция ставила в ситуацию распада и исчезновения. Это все следствие революции. Оправдать диктатуру невозможно, но и не принять эту возникшую в связи с революцией ситуацию во внимание нельзя. Ведь все началось с революции.
В фильме А. Смирнова «Жила-была баба» негатив революции всплывает в самой острой форме. Ни о каких «культурных героях» говорить не приходится. Они себя скомпрометировали и в жизни, и на экране. Героиней становится совершенно анонимная, как говорила героиня В. Марецкой в фильме А. Зархи и И. Хейфица «Член правительства», «простая русская баба». А герои себя давно скомпрометировали. Баба-то баба, а за ней вся Россия. Речь в фильме идет о бунте крестьян Тамбовской губернии против большевистской власти. Эта власть и в самом деле представлена как сборище мародеров, насильников и убийц. Воспроизведение этих мерзостей венчает расстрел деревенских жителей, в том числе, женщин и стариков, а также заодно и местного священника.
Имея в виду тамбовский бунт, летописец красного террора С. Мельгунов пишет: «История России, в которой крестьянские волнения занимали всегда не последнее место, никогда не видала таких усмирений, которые практиковала советская власть. Ничего подобного не было даже при крепостном праве, ибо при усовершенствованной технике против восставших пускаются в ход броневики, пулеметы и удушливые газы» [23]. Используя разные документы 1919 года, С. Мельгунов воспроизводит подробности этого восстания крестьян. Процитируем одно место из его книги, касающееся жестокости новой власти. «В Спасском уезде, во всех волостях, где только появлялись карательные отряды, шла самая безобразная, безразборная порка крестьян. По селам много расстрелянных. На площади города Спасска публично, при обязательном присутствии граждан-односельчан, было расстреляно десять крестьян вместе со священником, причем телеги для уборки трупов должны были предоставить граждане-односельчане. Расстрелянных за Спасской тюрьмой 30 человек заставили перед смертью вырыть себе одну общую могилу» [24].
Вот и героине фильма А. Смирнова приходится хоронить убиенных. Как будто это делает не простая тамбовская баба, в ее образе вся Россия. Как фильм А. Смирнова, так и другие фильмы о революции, вышедшие в последние годы, конечно, могут шокировать зрителей своей жестокостью. Они снова и снова возвращают к революции и пытаются в ней разглядеть то, что в предшествующий период оставалось за скобками. Почему бы это? Почему такое пристрастие к жестокости как оборотной стороне революционного идеализма? А объяснить это можно просто. Революция распечатала тот инстинкт разрушения, который культура всегда стремилась погасить и преодолеть. С того самого момента, когда революция пробила в культуре брешь, демон разрушения постоянно возвращается. Сталинские репрессии являются свидетельством того, что этот демон, проснувшийся в революции, еще продолжал быть активным. Но даже сегодня нельзя не ощутить, что насилие может вернуться. Это обстоятельство возвращает к суждению Э. Берка о том, что свободой, добытой в революции, нужно еще уметь воспользоваться. И лишь в этом случае, когда такое умение имеет место, можно говорить о позитивных результатах революции.
6. Последствия революции для культуры.
Культура и личность в ситуации революции.
Русская революция как фиаско проекта авангарда об искусстве как жизнестроении
Несмотря на то, что в оттепель многое из того, что произошло в первой половине ХХ века, начинало осознаваться, в отношении к революции точку ставить было еще невозможно. Ее и сейчас трудно поставить, даже если уже не запрещают ее критическое осмысление. К сожалению, в осмыслении событий историческая наука часто запаздывает. Как утверждает А. Синявский, зато не запаздывает литература, обращающаяся к негативным фактам истории. Между тем, фундаментальное критическое прочтение русской революции уже давно существовало. Существовало в книге уже упомянутого и процитированного выше П.А. Сорокина, некогда исполнявшего обязанности референта Керенского и выдворенного Лениным из России еще в 1922 году. Его книга «Социология революции» была написана в Праге сразу же после выдворения. Без нее, конечно, трудно ориентироваться в исторических событиях первой половины ХХ века.
Историки по-прежнему описывают факты и недооценивают универсальную интерпретацию этого феномена. Утверждают, что в эпоху постмодерна такие универсальные системы интерпретации не нужны. Но у П. Сорокина дана именно такая интерпретация революции. Проблема заключается лишь в том, что, работая над книгой в 1920-х годах, П. Сорокин еще не знает о тех последствиях революции, что связаны с диктатурой. Все произойдет позднее. Конечно, из той картины, которую нарисовал П. Сорокин, образ диктатора уже можно вывести. Он уже как бы и присутствует в массовом сознании. Но сам П. Сорокин об этом не писал и писать, естественно, не мог. Все это он мог наблюдать уже лишь после написания своей книги, находясь в Америке. Так сказать, издалека, с того берега. В России его книга стала известной лишь в горбачевскую эпоху. Можно утверждать, что она написана не только очевидцем революционных событий, но и одним из выдающихся ученых ХХ века, которого еще недавно в наших изданиях представляли «американским социологом».
Не был в России известен П. Сорокин, зато был прочитан «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына. Прочитан еще в форме самиздата и многими продуман. Видимо, всю первую половину прошлого столетия в России действовали, совершали, разрушали и созидали. А вот вся вторая половина столетия – это мучительные нравственные раздумья о том, что совершили, и о том, как последующая история связана с тем, что тогда в 1917 году совершили. Вот почему вопрос «Как ты относишься к революции?», прозвучавший в фильме М. Хуциева, для 1960-х годов оказался весьма актуальным.
А связь, разумеется, имеется. Происходило возвращение в настоящее. Резонанс русской революции, как в свое время революции французской, был грандиозным, но неоднозначным. На рубеже 1950-1960-x годов даже экранизация шолоховского романа «Тихий Дон», предпринятая С. Герасимовым, была серьезным достижением. Ведь как бы ни упаковывался сюжет романа в пропагандистское клише, как бы ни соответствовало легендарной ауре революции, все равно ведь он прочитывался как трагедия казачества, но и как трагедия народа, который, соблазненный идеями интеллигенции, сам себя уничтожает. С. Герасимова не назовешь либералом, но ведь и на его фильме тоже улавливается печать оттепели. Опыт революции, пока еще не до конца осмысленный, весьма поучителен. Ведь мы существуем от одной революции к другой. А в ходе революции на поверхность вырываются такие разрушительные комплексы, над которыми культура работала тысячелетия, чтобы их вытеснить, смягчить и нейтрализовать. Их выход способен обесценить любые достижения, ради которых приносились многочисленные жертвы.
Что же это за разрушительные комплексы, которые революция, не ставя этой задачи, а ее лидеры даже ее и не осознавали, в ситуации революции вырываются на поверхность, способствуя тому, что она каждый раз оказывается скомпрометированной, а ее результаты выглядят ничтожными. Как это не покажется странным, понять эти комплексы помогает исследователь древнейших представлений Д. Фрезер. Он утверждает, что варварские инстинкты, а именно они и прорываются в момент ослабления и, тем более, разрушения общества, способны вырываться, выходить на поверхность. Смысл этих инстинктов – в распечатывании стихии разрушения и саморазрушения, насилия. «В нашу задачу, – пишет Д. Фрезер, – не входит рассмотрение того, какое воздействие оказывает на будущее человечества наличие в жизни каждого общества, глубинного пласта дикости, не затрагиваемого поверхностными изменениями религии и культуры. Проникнув в глубины магии, беспристрастный наблюдатель увидел бы в ней не что иное, как постоянную угрозу цивилизации. Мы, как видно, движемся по тонкой корке, которая может в любой момент треснуть под воздействием дремлющих подземных сил. Время от времени глухой рокот или неожиданно вырвавшийся на поверхность язык пламени указывает на то, что происходит под нашими ногами» [25].
Имея в виду взрыв насилия во время Французской революции и, в частности, издевательства над королем и королевой, Э. Берк восклицал: «Мог ли я вообразить, что доживу до того времени, когда увижу, как галантная нация, нация людей чести и кавалеров, обращает на нее такие несчастья» [26]. А ведь Э. Берк говорит здесь о культуре. Ламентации философа затронули печальную участь власти, но и всей культуры. Из его трактата вычитывается мысль о враждебности революции культуре. «Но век рыцарства прошел, – пишет он. – За ним последовал век софистов, экономистов, конторщиков, и слава Европы угасла навсегда… Чувства и мысли, составившие целую нравственную систему, коренились в древнем рыцарстве; сам принцип внешне претерпевал изменения, ибо менялись условия человеческой жизни, но он продолжал существовать и оказывал свое влияние на длинный ряд поколений, сменяющих друг друга, вплоть до нашего времени… Но сейчас все изменилось. Все привлекательные иллюзии, которые делали власть великодушной, повиновение добродетельным, придавали гармонию разнообразным жизненным оттенкам, вкушали чувства, украшающие и смягчающие частную жизнь, – все они исчезли от непреодолимого света разума. Все покровы, украшающие жизнь, были жестоко сорваны, навсегда были отброшены все возвышенные идеи, заимствованные из запасов нравственности, которые владели сердцами и были предназначены для сокрытия человеческих недостатков. Они были объявлены смешными, абсурдными и старомодными» [27].
Понятно, что, начавшая историю революций в Новое время, Французская революция не только восхищала. Многие рассуждали в духе А. де Токвиля и Э. Берка. Французская революция напугала гильотиной, жестокостью, террором. Как пишет Т. Карлейль, старая Европа и новая Франция не могут ужиться вместе. «Куда не посмотришь, со всех сторон неизмеримый обскурантизм охватывает прекрасную Францию, которая не хочет быть охваченной им» [28]. В свое время она напугала российскую власть. Императрица Екатерина II приостановила переписку с французскими философами и начала преследовать масонов. В России так и не появились переводы сочинений французских философов. В числе недоброжелателей Французской революции – монархов, замышляющих против нее крестовый поход, Т. Карлейль называет и Екатерину II. А ведь императрица хотела и обещала издать некоторые философские труды, например, Ж.-Ж. Руссо. Да и на самом Западе в первые десятилетия ХIХ века поднимал голову консерватизм. После выхода в 1801 году «Философии права» Гегель становился властителем дум. А ведь в этой его работе он предстает апостолом консерватизма, философом реставрации. В постреволюционной Европе ждали не либеральных, а консервативных идей. Их и сформулировал Гегель [29].
Французская революция заметно провоцировала актуализацию консерватизма. Со времени Французской революции в истории стали противостоять две силы – модерн и консерватизм в имперской форме. Это дошло до ХХ века и проявилось в имперских амбициях России и Германии. Имело место не только хантингтоновское столкновение цивилизаций, но столкновение двух стихий, которые взаимно стимулировали активизацию каждой из них. Как величайшее событие в мировой истории революция спровоцировала интерес к поведению человека в массе. Оно оказалось неожиданным и не соответствовало оптимистическим настроениям. Философы модерна этого предсказать не могли.
Та вспышка суггестии, что является результатом воздействия массы на личность, а это и произошло в ходе революции, демонстрировала высокое эмоциональное напряжение, а оно деформировало восприятия и оценки. Люди находились в крайнем возбуждении. Описывая анархию времен Французской революции, И. Тэн пишет: «Среди этой смеси импровизированных политиков никто не знает того, кто говорит, никто не сознает себя ответственным за то, что говорит. Здесь совсем как в театре – незнакомый среди таких же незнакомцев, всякий ищет только сильных ощущений. Насыщенная страстями атмосфера заражает его; им овладевает вихрь громких слов, вымышленных известий, неистового шума и всевозможных эксцентричностей, в которых один старается перещеголять другого. В воздухе стоит гул от криков, слез, аплодисментов и топота, точь-в-точь как на представлении какой-либо раздирательной драмы» [30]. Вот это-то как раз и старался передать в своем фильме «Октябрь» С. Эйзенштейн. Ему и в самом деле не потребовался традиционный сюжет, который он, как настоящий авангардист, ненавидел. Он ощутил атмосферу революции, ее наэлектризованную атмосферу и постарался ее передать в своем фильме.
Потом, спустя много десятилетий начнут появляться трактаты по психологии масс. Среди самых известных ученых, кто об этом размышлял, назовем Г. Лебона, С. Сигеле, Г. Тарда, З. Фрейда, у нас – Михайловского и Бехтерева. Провозвестники нового направления (позднее его назовут социальной психологией) сосредоточили внимание на том, как, оказавшись в толпе, люди позволяли себе такое, от чего в здравом уме можно сойти с ума. Но это могли быть одни и те же люди – и совершившие насилие, и, спустя время, оценивающие его отрицательно. Они были не в состоянии понять, как они могли это сделать [31]. А ведь именно это – пробудившиеся комплексы наэлектризованной революционной вспышкой массы – и определит логику развития революционного процесса, которому вынуждены подчиняться даже вожди, т.е. лидеры массы в ситуации революции. И потому этот революционный процесс кажется иррациональным, провоцирующим вспышку насилия, что кажется невероятным. Поэтому революция страшна даже не идеями, во власти которых оказываются революционные утописты, а именно этим прорывом варварства, что, конечно, не может не восприниматься забвением высокого гуманизма и всех следующих за реальностью осевого времени этических систем. Сегодня появилось множество искусствоведческих исследований о русском ренессансе начала ХХ века. Для этой эпохи даже придумали поэтическое название – Серебряный век. Но все это лишь маскирует ту трагедию, что имела место в революции. Революция – исключительная ситуация, позволяющая наблюдать проявления человека и человеческой природы в ее самых низших биологических проявлениях. Можно сказать, варварских проявлениях. Трактат С. Сигеле «Преступная толпа. Опыт коллективной психологии» (1892) как раз об этом и говорит.
Если иметь полную информацию о том, что происходило во время революционной вспышки, невольно приходишь к выводу, что, кажется, никакого русского или славянского культурного и художественного ренессанса, о котором так много говорили и продолжают говорить, как бы и не было. А был ренессанс варварский, втягивающий творцов, но и часть интеллигенции. Просто об интеллигенции мы знаем много, поскольку ее представители оставили о своих мытарствах письменные свидетельства. Вот, используя некоторые из них, а именно, мемуары А. Бенуа и З. Гиппиус, немецкий режиссер К. Роте поставила мультипликационный фильм (правда, с использованием хроники) о русской революции. Этот варварский ренессанс подкрался незаметно, в тот исторический момент, когда искусство и в самом деле расцветало. Процветало, но только в узкой среде и не успело проникнуть в массу, чтобы облагородить ее. Время же было такое, когда все определяла масса.
Этот ренессанс подкрался да проявил себя в виде взрыва, начавшего уничтожать не только искусство, но и самих художников. Да только ли художников, творцов. Как тут не вспомнить, как во время Французской революции в дом предварительного заключения был брошен даже автор знаменитых комедий «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро» Пьер Огюстен Карон де Бомарше. А ведь он был, как утверждает Т. Карлейль, почти «полубогом». И не он ли приближал своим разоблачением нравов королевского двора восхождение третьего сословия, как и революции как двери, через которые оно входило в историю. Говорят, при аресте, когда революционеры под шум уличной толпы постучали в дверь его дома, он так растерялся, что не мог даже правильно натянуть на себя камзол. Ему еще повезло. Он отбыл в эмиграцию, как позднее и множество русских художников. А ведь многих этот самый красный террор коснулся.
В связи с этой темой мы коснемся фильма К. Лопушанского «Роль», который может проиллюстрировать тезис Х. Арендт о том, что массовые революционные движения в свой эпицентр вовлекают и интеллектуалов. Да только вот кончается эта активность интеллигенции скверно. Кроме того, герой у К. Лопушанского представляет художественную среду, породившую идею творчества жизни, а не искусства. Вот революция ими и воспринималась таким творчеством жизни. К. Лопушанский затронул очень существенный признак всякой революции и, разумеется, русской тоже. Ведь революция приходит в праздничном ореоле. Она воспринимается карнавалом, а в карнавале каждый выбирает и играет свою роль, забывая о той реальной социальной роли, которая обществом за ним закрепляется. Но в революции такая гипертрофия принимаемой роли становится катастрофой, ведь в игру втягиваются не отдельные люди, а целые классы.
В фильме утверждается мысль о том, что революция и в самом деле, как это представляли и одобряли авангардисты, перечеркивает всю старую культуру, носители которой или погибают или отправляются в эмиграцию. В стране создается совсем другая культура. Только какая это культура? Она, как утверждал Г. Федотов, возникает на основе актуализации тех традиций, что были заложены еще в средние века. Отдельные представители интеллигенции пытаются в новую культуру вписаться, сотрудничать с ней, играть новые роли. Вот как, например, И. Бунин пишет о В. Брюсове: «все левеет», «почти уже форменный большевик… С начала войны с немцами стал ура-патриотом. Теперь большевик» [32]. Вот об одной такой роли, когда интеллигент пытается сыграть роль большевика, и решил поведать в своем фильме К. Лопушанский.
В фильме К. Лопушанского тема Серебряного века обыгрывается. То, что обычно называют «русским Ренессансом» прошлого века, и в самом деле имеет отношение к революции. Ведь символисты, как породившие все разновидности авангарда, были убеждены, что старые формы умерли. Нужно выйти за пределы обычных представлений и созидать не художественные ценности, а саму жизнь. Идея жизнестроения прежде искусства. Герой фильма известный театральный актер Николай Евлахов решает эту символистскую и, в общем, авангардную идею реализовать. Вообще-то, после события на станции Рытва, когда красноармейцы расстреливали бeлых офицеров, а заодно и массу народа, даже ребенка, он покидает Россию и свою деятельность продолжает в Финляндии. Но, судя по всему, в революции он не разуверился. Тем не менее, расстрел, свидетелем которого он оказался, будет иметь последствия. Ведь его тоже должны были пустить в расход. Но произошла заминка. Красный командир Игнат Плотников, отдававший приказы расстреливать и расстреливавший сам, увидел в нем своего двойника, т.е. внешне похожего на него человека. Это погасило его революционную рьяность. Евлахову была сохранена жизнь, несмотря на бурные протесты помощника Плотникова – Спиридонова, упивавшегося от крови и увеличивающего число трупов. Плотникову делается дурно, и он просит продолжить расстрелы Спиридонова, что тот с удовольствием и азартом и делает. Евлахов же не только ощутил похожесть на него красного командира, но и какую-то с ним внутреннюю связь.
Потом, когда уже красного командира не будет в живых, к Евлахову случайно попадет его дневник. Игната Плотникова то ли расстреляют, то ли он сам пустит себе пулю в лоб. Раз он тогда на станции проявил слабость, ясно, что в революции ему не выжить. Так оно и получилось. Читая дневник Плотникова, актер все более проникается к нему симпатией. И он, наконец, решает перевоплотиться в Плотникова, чтобы жить его жизнью, т.е. продолжать революционное дело, принимать активное участие в строительстве новой жизни. Он, как героиня бергмановского фильма «Персона», бросает сцену, отказывается от гастролей в Берлине, заказывает офицерское обмундирование у портного, а затем переходит границу и оказывается в революционном Петрограде уже как Плотников. Перевоплощение совершилось. Начинается первый акт революционной драмы.
Сначала Евлахов оказывается на подозрении, его арестовывает какой-то лихой красный Пинкертон, потом освобождают, ему выделяют комнату в коммуналке. Ему даже симпатизирует проживающая рядом в том же бараке женщина. Наконец, он отыскивает в Петрограде и красного убийцу – Спиридонова. Тот успел сделать карьеру, кого-то там уплотняет и завладевает хорошо обставленной квартирой. В общем, он преуспевает, что понятно – дело именно к этому и шло. Революция его вознаграждает, но ненадолго. Разве может быть в этом хаосе что-то прочное. Земля колеблется даже под ним. Выясняется, что, управляя каким-то заведением, он проворовывается. В ходе следствия он пускает себе пулю в лоб.
Что же касается Евлахова, то он так и не успевает узнать, был ли тогда, во время расстрела людей на станции убит ребенок. Тема ребенка, столь важная для героя, заставляет вспомнить Достоевского. Постепенно, сталкивая героя с тем, что в Петрограде происходит после революции, режиссер подводит зрителя к мысли, что идея жизнестроения, выпущенная художественным авангардом, реализованной быть не может. Это ложная идея. О каком строительстве новой жизни может идти речь, когда строителями оказываются убийцы и воры. В той среде, что возникла в России, не выживают не только обычные люди и уж, тем более, люди интеллигентные и мыслящие, каким предстает актер Евлахов, но, собственно, и сами убийцы. Не выжил не только убийца Спиридонов, но и красный командир Плотников. Он хотя и давал приказ сжигать в топке паровоза и расстреливать невинных людей, тем не менее, еще имел какие-то человеческие чувства. Потому и сломался и плохо кончил. Тем более, в этой ситуации не могли выживать люди стойкой душевной организации, как Евлахов. Постепенно он приходит к выводу, что то, что приходит на смену той жизни, что предшествовала революции, нежизнеспособно. Играть роль Плотникова бессмысленно. Никакого жизнестроения не происходит. Старую культуру не сохранить. Герой уходит в неизвестном направлении. В финале его находят замерзшим в поле.
Вывод такой: не получилось из революции никакого просвета в будущее, а получилась все та же вечно возобновляющаяся в России разиновщина. Бунт бессмысленный и беспощадный, втягивающий и умных, и глупых, революционеров и контрреволюционеров, рабочих и крестьян, невиновных и виновных. Миром начал править лишь Танатос. Не случайно из бреда главного героя выделяется фраза «Время мертвых и время живых… Время мертвых». Революция в соответствии с выводом режиссера – это время мертвых. Революция – это самоистребление массы, загипнотизированной идеями о счастливой жизни. Никакой счастливой жизни не будет. Вместо мечты происходит погружение во мрак, в варварство. Не случайно, когда за Евлаховым приходит из Финляндии проводник, чтобы помочь ему вернуться, он на просьбу актера повременить, реагирует так: «Вы смертельно рискуете. Ведь что ни день, то узел затягивается туже». Свободы, которой добивались, выходя на площадь, не будет, а узел будет затягиваться все последующие десятилетия. До следующего беспощадного бунта. В истории имеет место регресс. Что стоит эта мечта и эта надежда, когда приходится уничтожать все больше и все чаще, если гибнут, в том числе, и дети. Не случайно в фильме вспоминают не только автора идеи жизни как театра Н. Евреинова, но и Достоевского с его «слезинкой ребеночка».
7. Революция как преступность в легальных формах.
Аура революции как архаического ритуала
Показывая на примере русской революции, как гаснут религиозно-морально-правовые рефлексы, тормозящие убийства и посягательства на жизнь и телесную неприкосновенность человека, П. Сорокин пишет: «Уголовная статистика России не знает, чтобы за три года было убито около двух миллионов русских граждан русскими же гражданами» [33]. По сути, П. Сорокин говорит о распечатывании в ходе революции того разрушительного потенциала, который, как казалось, культурой давно преодолен. «Уголовная хроника России, – пишет П. Сорокин, – уже давно не знала убийств путем зажимания половых органов в тиски, путем привязывания жертвы к двум согнутым деревьям и медленного разрывания на части при их выпрямлении, путем закапывания живых в землю, путем снимания кожи с живого, отрезания ушей, носа, рук, ног, протыкания глаз и т.д. Все это мы наблюдали в русской революции со стороны и «красных» и «белых». Варварство, садизм и Средневековье с рафинированными пытками жертвы и близких ей лиц – воскресло» [34].
Что касается фундаментального труда П. Сорокина о революции, то, обнаруживая множество о ней фактов, он тоже ставит акцент на ней как разрушительном феномене. В дискуссии в 1920-е годы, посвященной моде на поэзию С. Есенина, обращает на себя внимание суждение Е. Преображенского, отметившего, что с началом революции 1917 года число преступлений заметно снизилось. Куда же делись преступники? Их исчезновение Е. Преображенский объяснял так. «До 1905 года было колоссально развито хулиганство. Явление имело массовый характер, – пишет он. – Но приходит 1905 год, захватывает весь завод, масса рабочих хлынула в движение. И потом в числе наиболее активных членов наших организаций оказалась та самая молодежь, которая больше всего буйствовала и хулиганила перед 1905 годом. Она составляла кадры наших боевых организаций; все эти ребята оказались прекрасными бойцами за пролетарское дело, многие из них погибли в борьбе с царизмом, были казнены, расстреляны, многие сейчас в партии» [35].
Но все не так просто. Обольщаться не приходится. Предоставим слово автору «Социологии революции». П. Сорокин констатирует: импульсы к убийству во время революции начали проявляться в легальных массовых формах. «Нужно быть совсем дураком, – пишет он, – чтобы во время революций (а также войны) удовлетворять свою страсть к убийству в «нелегальных» формах. Любой мало-мальски умный человек непременно будет делать это в «легальных» формах: сделается комиссаром, чекистом, солдатом одной из сторон и будет убивать, грабить и насиловать сторонников другой стороны «легально», «по декрету или ордеру», «по приказу начальства». Так бывает всегда, так случалось и в русской революции. Огромная часть уголовных преступников вошла в ряды чекистов и действовала вполне законно. Что это предположение о поглощении «легальными» массовыми преступлениями преступлений индивидуальных верно, это подтверждается и тем, что по окончании революции с исчезновением возможности «легальных» убийств, возросшая склонность к насилию сразу же дает себя знать в резком повышении криминальных убийств» [36].
Что касается массового убийства в легальных формах, то это показал Н. Михалков в своем фильме «Солнечный удар», в частности, в эпизоде потопления баржи с белыми офицерами в море. Когда И. Бунин перечисляет проявления революционной жестокости («… Грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквах, вырезывают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников» [37], он еще не называет потопление офицеров. Но, пытаясь воспроизвести в своем фильме повесть И. Бунина, Н. Михалков как раз это и продемонстрирует. Благодаря Н. Михалкову на нашем экране впервые предстанут обычно воспринимавшиеся легендарными комиссары революции Розалия Самуиловна Залкинд, известная под псевдонимом «Землячка» и имевшая партийную кличку «Демон», и венгр по происхождению Бела Кун. Видимо, есть «ангелы революции», и о них ставит фильм А. Федорченко, но есть и «демоны революции». Вот эти два красных комиссара и предстают в фильме Н. Михалкова «демонами революции». Они и отдадут приказ потопить сотни белых офицеров в море.
А действие в фильме происходит на юге России, в частности, в Крыму, а известно (и об этом можно прочесть в титрах фильма), что с 1918 года по 1922 год в этих местах было загублено 8 миллионов человек. Вот там и происходит действие фильма, там комиссары и готовят белых офицеров к жертвоприношению, к кровавому революционному ритуалу. Поскольку фильм претендует на экранное воспроизведение бунинских образов, то как тут по поводу большевистских ритуалов не процитировать И. Бунина. «Да и сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, – пишет он, – когда были провозглашены братство, равенство и свобода… В человеке просыпается обезьяна» [38].
Вот из этой последней бунинской строчки Н. Михалков делает лейтмотив всего фильма. В нем офицер царской армии, а дело было незадолго до революции, в 1907 году, выйдя с парохода, на котором он путешествовал по Волге, встретил мальчика по имени Егорий. Егорий – весьма начитанный мальчик. Он находится под впечатлением прочитанной книги Дарвина, и никак в его голове не укладывается идея ученного о том, что человек произошел от обезьяны – это еще можно допустить, но чтобы от обезьяны произошли известные люди, например, царь, то это Егорию представить никак невозможно. Даже мальчишка не может представить царя без сакральной ауры. Вот и происходит эта дискуссия Егория с офицером. К чему бы это в фильме? Зачем это притягивать к И . Бунину? Но ведь от И. Бунина эта мысль и идет. Вот описывая мерзости, которые совершаются в революции, писатель выводит: «Быстро падает человек» [39]. Чуть дальше у него мы находим мысль о человеке, в котором просыпается обезьяна.
Вот из этой бунинской фразы у Н. Михалкова получается лейтмотив, который закончится этим самым революционным ритуалом Любопытно, как же подает режиссер красных комиссаров? Человеческого сочувствия с их стороны по отношению к своим жертвам, конечно, тут нет никакого. Комиссары провожают сотни отборных, вышколенных прекрасных воинов, многие из которых отличились в Первой мировой войне, на смерть, при этом они ведут себя так, словно они отправляют их в чудесное путешествие. Ведь ясно, что не по их (Землячки и Белы Куна) воле происходит этот ритуал. Они – лишь исполнители. Они исполняют приказ, поступивший из центра. А раз не по их воле, то в данном случае вынужденные выполнять столь жестокий приказ, они могли бы предстать людьми и проявить по отношению к своим жертвам какие-то чувства, сострадание. Но ничего подобного в поведении красных комиссаров нет.
А ведь, казалось бы, та же Землячка, когда старая империя еще не развалилась, была сама приговорена к смертной казни. Ей бы и выказать сострадание. Человеческие чувства у «демонов революции» атрофированы. Более того, режиссер подает комиссаров в подчеркнуто даже не ироническом, а сатирическом виде. Как будто речь идет не о лишении жизни сотен прекрасных военных специалистов, а о каком-то маскараде. Но, как мы уже высказывались по поводу фильма К. Лопушанского, революция и есть маскарад. Это не противоречит и бунинскому восприятию революции. Удивляясь тому, что все революции выглядят одинаковыми ( а Бунин высказывается не только о русской, но и о французской революции), писатель констатирует: «Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных черт революции – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана» [40].
Мимо этого высказывания режиссер не прошел. Он его материализовал в образах красных комиссаров. Так, Землячка возмущается не тому, что вынуждена исполнять бесчеловечный приказ, а лишь тому, что Бела Кун коверкает произношение русских слов, поскольку плохо знает русский язык. Ее в такой момент возмущает и волнует только это. Высказывая суждение о революции как о маскараде, И. Бунин, конечно, затрагивает чрезвычайно значимую проблему, связанную с функцией праздника в культуре, которая давно обсуждается культурологами. Как это ни покажется парадоксальным и даже кощунственно не прозвучит, но революция, воспринимаясь маскарадом, в глазах массы предстает праздником, причем, в самом древнейшем его проявлении. Праздник – явление не повседневное. Это исключительное, а еще более точно, мифологическое явление. Это время мифа, а миф означает сакральное. Праздник – это сакральное время. Это время всегда ожидаемо и притягательно, поскольку в нем обычные запреты, лежащие в основании нравственности, да и всей культуры, упраздняются. В празднике позволено все. Вплоть до господства Танатоса. Вот и в революции он господствует.
Это не удивительно, ведь праздничное время – это время хаоса, точнее, отмены нравственного фундамента культуры и возвращения в первовремя, во времена предков. Первое, что в это праздничное время разрушается – это власть авторитета, т.е., если переводить это на язык поздней истории, первого лица в государстве как фигуры непременно сакральной. Это древнейший признак всякого праздничного действия. Он имел место и в революции. Не случайно С. Эйзенштейн свой фильм «Октябрь» начинает с разрушения сакрального образа власти – памятника Александру III. Сначала разбирают и дробят памятник, а затем уничтожают и живого царя со всей его семьей, как это будет показано в фильмах К. Шахназарова и Г. Панфилова. Все как во французской революции. Сначала разрушают памятник, потом казнят и короля.
Как бы ни объясняли эту акцию на политическом или экономическом уровне, полным объяснением это не будет. В конечном счете, в революции срабатывает древнейший закон праздника – запускается машина разрушения и сметает все, что до этого было отмечено печатью сакрального. Все прежние авторитеты упраздняются, все сбрасывается под откос. Наступает хаос, из которого творится принципиально новый космос. Упраздняется сакральная аура прежнего космоса и космос творится заново, а вместе с ним активизируется и новая сакральная стихия. Это, конечно, психология, а не экономика. Причем, психология средневековая, даже архаическая, можно сказать даже, доосевая. Это время сотворения нового космоса есть сакральное время. Это время рождения новой сакральности. Та власть, что появится в революции, тоже сакрализуется, как сакрализуется и сама революция. Революционеры – творцы нового мира. Им позволено все. Они творят мир заново. То, что старый мир должен исчезнуть – это не из листовок и призывов времен революции. Это из далекой истории, из архаики, из доосевого времени. Это архетипическая стихия, и это способен объяснить только К. Юнг.
Глубокий мыслитель П. Сорокин предлагает социологическую интерпретацию революции. Уязвимость этой интерпретации заключается в том, что это позитивистская интерпретация. Но позитивистская интерпретация (а социология как наука возникает на основе позитивизма) недостаточна, чтобы понять все коннотации революции. Ведь это выплеск архаики и, следовательно, архаического сознания, в соотнесенности с которым постигается смысл революции. Если исключить действие сакрального в революции, то многое в ней будет непонятным, неприемлемым, варварским. Но так может казаться только с точки зрения сознания современного человека. Да, непонятно постольку, поскольку революция говорит на языке, который был вызван к жизни еще в доосевое время. Это не может не пугать. Действующие в революции новые вожди не знают запретов, ведь они сами их заново устанавливают. Белые офицеры в фильме Н. Михалкова – жертвы такого хаоса, такие же жертвы, какими их представил М. Булгаков в «Белой гвардии», а затем С. Снежкин в фильме, поставленном им по этому роману.
Останутся эти замечательные белые воины, отправленные «демонами революции» на дно, неизвестными. Не будет у них могил, чтобы кто-то потом приходил и вспоминал о них. Никто из комиссаров не проявил к ним милосердия. Весьма показательна фраза Землячки на суждение по поводу созвучности идей коммунизма христианству. На это суждение она реагирует мгновенно – «Печальное заблуждение». Понятно, попахивает богоискательством. Ленинская школа нетерпимости. И все-таки об этих жертвах должны вспомнить. Кажется, останется фотография. В сюжет введен трогательный юный белый офицерик со своим громоздким фотоаппаратом. Он все пытается объединить всех – и белых, и красных. И сфотографировать их вместе (ведь капитуляция белых для него исключает конфликт, а, следовательно, означает примирение), а это не получается . Да и Землячка, узнав об этом, отвергает романтическую идею. Она – реалист. Комиссары вообще реалисты. Ведь она знает, чем все закончится. Нельзя оставлять улики. Ведь смерть без суда и следствия – это торжество анонимности как оборотная сторона дегуманизации революции. Единения нет и не будет. Такова логика революции. Они, эти комиссары – все Робеспьеры. Ведь пишет же И. Бунин, что все революции схожи. А офицерик – фотограф, энтузиаст, подобно наивному толстовскому Пете Ростову, не теряет надежды на общую фотографию. Он уже согласен – можно фотографироваться и без красных. Фотография, в конце концов, сделана. Офицерик, извиняясь, что не захватил с собой визитки, вручит каждому свой парижский адрес (ведь его родители давно в эмиграции) и оттуда он всем эту фотографию вышлет. Не вышлет. Негативы вместе с громоздким фотографическим аппаратом уйдут на дно. Большевики преуспели в искусстве заметать следы. До сих пор открывают все новые и новые захоронения расстрелянных в затылок.
Конечно, изображая обреченных военных, режиссер вовсе не избегает видеть, что белые офицеры отнюдь не проявляют пассивность и вовсе не демонстрируют смирение. Сопротивление загнано вовнутрь, но оно все же проявляется. Да, они подписали капитуляцию, они сдали оружие. Многие даже поверили большевикам, что могут вернуться в родные места и заниматься мирными делами. Готовы сотрудничать с новой властью. Но не тут-то было. Новая власть коварна. Один из белых – ротмистр все время говорит о необходимости сопротивления. Ему трудно подавить свой протест. В обещания новой власти он не верит, чего нельзя сказать о полковнике родом из Самары. Желая доказать преданность новой власти, он доносит на ротмистра. Тот исчезает, а куда, так в фильме и не прояснится, хотя можно догадаться. А вот полковника из Самары ночью задушат, задушат свои. Это будет свидетельствовать о том, что идея сопротивления и недоверия новой власти реальна. Чувство чести – закон для офицера, тем более, белого.
Режиссер стремится показать, что гражданская война – вовсе не прошлое, она идет, пусть и подспудно. А если что-то и становится заметным, то ему дадут маскарадную интерпретацию. Вот и Землячка. В своей бойкой речи перед белыми офицерами она не подаст и виду о том, что ночным происшествием напугана. Она выразит сожаление о том, что полковник ночью скончался от сердечного приступа. Сообщит она и о принятом новом решении об эвакуации не по железной дороге, а с помощью баржи и не через несколько дней, а тотчас же. Такая непредвиденная спешка объясняется необходимостью упредить вспышку сопротивления белых офицеров. Возможен бунт, а, следовательно, и ликвидация капитуляции. С баржой поспешат, и это будет ответом, реакцией на возможный бунт и, следовательно, на вооруженное столкновение.
Конечно, в фильме эпизод утопления становится основным. Мальчик Егорий, который забыл вернуть герою часы, все же перед самым жертвоприношением его находит и успевает часы передать. Часы передают офицеру перед самой смертью. Он все же успевает их получить. История с часами будет весьма символичной. Именно этот мальчик, которого все время мучает вопрос, как же так, неужели и царь – от обезьяны тоже, своим поведением опровергает идею родства человека и обезьяны. Линия с мальчиком опровергает и сделанный в знаменитых «Днях окаянных» Бунина вывод о том, что в человеке просыпается обезьяна. Это, пожалуй, в фильме главное.
Но главное в нем и повторяющаяся в сознании его героя мысль о том, как и почему случилось то, во что он, молодой человек, оказался неожиданно ввергнут. Ведь совсем недавно, каких-нибудь десяток лет жизнь была совсем другой. Эпизод приготовления к жертвоприношению в фильме все время чередуется с эпизодами мирной и счастливой жизни. А жизнь эта сосредотачивается вокруг парохода, на котором путешествует молодой офицер с саблей и на котором он встречает очаровательную девушку. Оператор снимает эту туристическую идиллию в совершенно сказочном духе. Все попадающее в кадр люди и герой прежде всего предстают в белых одеждах. Это чудесный мир, полный счастья и любви, в котором можно беззаботно существовать. Уже накануне гибели герой все время будет задавать себе вопрос: «И где это все? И было ли? Вопрос опять же навеян бунинским дневником. В нем говорится: «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье…» [41]. Герою уже кажется, что это было лишь сновидение. Кажется, в реальности этого не было и не могло быть. Его это видение посетило в результате солнечного удара. Это, как бы выразился С. Эйзенштейн, «выход из себя». Это только мгновение.
Но герой задает и другой вопрос: «Как это все случилось?». А вот это уже вопрос не столько героя, сколько самого автора, режиссера, с большим запозданием возвращающегося к бурным дискуссиям середины 1980-х, когда все зачитывались дневником И. Бунина, прозревая истинный смысл революции. Когда фильм С. Говорухина «Россия, которую мы потеряли» смотрели все. Эта мысль имеет продолжение. Когда баржа уже отчаливала от берега и офицеры оказывались за несколько минут до смерти, один из офицеров позволяет себе в присутствии героя откровенные признания. Он начинает с розановской критики русской литературы, признаваясь, что ненавидит ее, поскольку с нее началось это безумие, поливание грязью в России всех и всего и, в том числе, власти. На протяжении длительного времени в России все грешили и не каялись. То, что случилось сейчас, в революции, – результат такого отношения к стране, власти, человеку. Все выглядело и воспринималось ложью. Так стоит ли сейчас недоумевать и задавать риторические вопросы, как это могло случиться. И какую Россию мы потеряли. Все сделали своими руками. Ведь понимали, что происходит и к чему все может привести. Но не хотели во все это вмешиваться. Думали, что обойдется, но не случилось, не обошлось. «Какую страну, какое государство загубили».
Почему этот монолог такой длинный? Судя по всему, режиссер имеет желание здесь сказать нечто очень важное. И это важное идет уже не только от героя, но и от самого режиссера. Конечно, в этом признании вычитывается и предупреждение своим современникам – берегите свою власть, берегите свое государство, любите их. Позвольте, но кто эти слова произносит, чьи это мысли? Подумать только, ведь эти мысли, с которыми, казалось бы, невозможно не согласиться, произносит персонаж, который много десятилетий в отечественном кино имел исключительно демонические признаки, более того, изображался врагом, причем, злейшим. Далеко мы ушли от этого времени. Небывалое дело. Но, впрочем, это на экране небывалое. В жизни уже давно устранен барьер между белыми и красными. Сегодня очевидно: красные Россию не спасли. Они ее чуть не уничтожили. Так, может быть, пора поразмыслить над тем, что несло с собой белое движение. Судя по всему, режиссер размышляет так: может быть, монархический вариант истории в ХХ веке для России был бы более позитивным и уж точно менее разрушительным.
Если эту точку зрения принять, а похоже, что режиссер на ней и стоит, то, конечно, солженицынская трактовка российской истории ХХ века будет единственно приемлемой. И чудится в этом исповедальном монологе белого офицера перед смертью в фильме Н. Михалкова не только послесловие к революции 1917 года, а предостережение нам, современникам, даже призыв бережно относиться к той власти, которую имеем и не повторять совершенных в прошлом ошибок. В данном случае режиссер выступает не только критиком революции, но и государственником, последователем Гегеля и гегелевской концепции и того его известного тезиса, что без государства нет и свободы. Правда, ХХ век показал, что свободы может не быть и в государстве.
ПРИМЕЧАНИЯ
[19] Пастернак Б. Доктор Живаго. М.: Советский писатель, 1989. С. 434.
[20] Бунин И. Окаянные дни. М.: Современник, 1991. С. 38.
[21] Сорокин П. Указ. соч. С. 88.
[22] Солженицын А. Публицистика: в 3 т. Т. 3. Ярославль: Верхняя Волга, 1995. С. 298.
[23] Мельгунов С. Красный террор в России. Нью-Йорк: Издательство Брэнди, 1979. С. 97.
[24] Там же. С. 97.
[25] Фрезер Д. Золотая ветвь. М.: Политздат, 1980. С. 69.
[26] Берк Э. Указ. соч. С. 79.
[27] Там же.
[28] Карлейль Т. Указ. соч. С. 319.
[29] Гайм Р. Гегель и его время. Лекции о первоначальном возникновении, сущности и достоинстве философии Гегеля. СПб.: Наука, 2006. С. 283.
[30] Тэн И. Происхождение современной Франции. Т. 2. Анархия. М.: Тип. И.Ф. Пантелеева, 1907. С. 27.
[31] Сорокин П. Указ. соч. С. 141.
[32] Бунин И. Окаянные дни. С. 16.
[33] Сорокин П. Указ. соч. С. 134.
[34] Там же. С. 134.
[35] Упадочное настроение среди молодежи. Есенинщина. М.: Изд. коммунистической академии наук, 1927. С. 57.
[36] Сорокин П. Указ. соч. С. 138.
[37] Бунин И. Указ. соч. С. 71.
[38] Там же. С. 43.
[39] Там же. С. 18.
[40] Там же. С. 43.
[41] Там же. С. 42.
© Хренов Н.А., 2019
Статья поступила в редакцию 17 января 2018 г.
Хренов Николай Андреевич,
доктор философских наук, профессор,
Всероссийского государственного университета
кинематографии им. С.А. Герасимова.
e-mail: nihrenov@mail.ru

ISSN 2311-3723
Учредитель:
ООО Издательство «Согласие»
Издатель:
Научная ассоциация
исследователей культуры
№ государственной
регистрации ЭЛ № ФС 77 – 56414 от 11.12.2013
Журнал индексируется:
Выходит 4 раза в год только в электронном виде
Номер готовили:
Главный редактор
А.Я. Флиер
Шеф-редактор
Т.В. Глазкова
Руководитель IT-центра
А.В. Лукьянов
Наш баннер:

Наш e-mail:
cultschool@gmail.com
НАШИ ПАРТНЁРЫ:
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Культуру культуры» обязательна.
© Научная ассоциация исследователей культуры, 2014-2024







