НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Научное рецензируемое периодическое электронное издание
Выходит с 2014 г.

Гипотезы:
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Э.А. Орлова. Антропологические основания научного познания
Дискуссии:
В ПОИСКЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (рубрика А.Я. Флиера)
А.В. Костина, А.Я. Флиер. Тернарная функциональная модель культуры (продолжение)
Н.А. Хренов. Русская культура рубежа XIX–XX вв.: гностический «ренессанс» в контексте символизма (продолжение)
В.М. Розин. Некоторые особенности современного искусства
В.И. Ионесов. Память вещи в образах и сюжетах культурной интроспекции
Аналитика:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
А.Я. Флиер. Социально-организационные функции культуры
М.И. Козьякова. Античный космос и его эволюция: ритуал, зрелище, развлечение
Н.А. Хренов. Спустя столетие: трагический опыт советской культуры (продолжение)
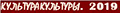

Н.А. Хренов
Революция и культура:
десакрализация революции в российском кино рубежа XX-XXI вв.
(окончание)
Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар,
над умами живых»
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 7. М.: Политиздат, 1957. С. 119)
Аннотация. В статье рассматривается процесс постепенной сначала осторожной демифологизации, а затем все более откровенной десакрализации революционных событий 1917 г., что получило наиболее наглядную интерпретацию в произведениях отечественного кинематографа. Первые шаги на этом пути были сделаны еще в советское время, а уже в постсоветское десакрализация революции стала одной из основных тем кино.
Ключевые слова. Революция, демифологизация, десакрализация, кинематограф.
8. Из ХХ века в век ХVII: «демоны» и «ангелы» революции
В своем дневнике И. Бунин пишет: «День и ночь живем в оргии смерти» [42]. Вот эта оргия в наиболее адекватном своем проявлении представлена в другом фильме о революции – фильме А. Рогожкина «Чекист». Может быть, по средствам изображения революционной танатологии это самый шокирующий фильм. Такими средствами в нашем кино воспользовался только А. Балабанов, но о революции он не высказывался. Фильм А. Рогожкина, можно сказать, в некотором отношении единственный в своем роде. Палачами здесь предстоят не просто фанатически убежденные в революционной справедливости люди, а играющие роль убежденных патологические персонажи. Опять возникает проблема роли, как и у К. Лопушанского. Но эту роль, как показывает А. Рогожкин, предлагается сыграть патологической личности, которая знамя революции используется как форму проявления своего садизма. Мы сейчас снова вернемся к суждению Е. Преображенского, высказавшего на диспуте, посвященном С. Есенину, о революции как сублимации преступности. Но в данном случае сублимация отсутствует. Речь должна идти об узаконенной преступности. Революция как извращение, революция как взрыв и проявление садизма, патологии, преступных действий.
Для отечественного кино это принципиально новая и, пожалуй, единственная попытка кое-что в революции прояснить. Это и в самом деле, десакрализация революции. Может быть, это один из самых впечатляющих фильмов о революции, появившихся в начале 90-х годов прошлого века, когда можно было уже свободно высказываться. Вот такое жесткое высказывание о революции, представленного в духе позднего П.-П. Пазолини, как раз и содержится в фильме А. Рогожкина. Для нас оно тем более интересно, что главный герой фильма – Андрей Срубов, начальник губернского отделения ЧК – патологический садист. Свое отделение он превратил в ритмично и бесперебойно работающую машину по производству трупов. На протяжении всего действия фильма идут расстрелы. Людей заводят в подвал, раздевают, ставят к стенке и стреляют в затылок. Стреляют самых обыкновенных людей, на которых в органах появляется донос. Но виноват ли этот, приготовленный к расстрелу человек, никто не разбирается. Виноват и все. Революция все спишет, а бог там разберет, кто виноват, а кто невиновен. В верхних комнатах принимают решение о расстреле, причем, как водится, без предусмотренных законом процедур, просто в соответствии с революционной интуицией, а внизу в подвалах происходят расстрелы, причем, под бравурные музыкальные мелодии, как это, например, показано в фильме Э. Климова «Иди и смотри» делали фашисты.
Хотя на протяжении всего фильма проходят десятки, если не сотни дел, помилования не будет. Всех прибывающих в отделение людей расстреливают. При этом исполнители этих расстрельных актов не прочь поразвлечься. Показателен, например, такой розыгрыш кровавых сослуживцев Срубова. Желая поиздеваться над одним из них, который бездумно отвечал на риторический вопрос, казнить или миловать задержанного, один из палачей после имени вставил о принадлежности к той или иной организации слово «из ЧК» Тот машинально, не задумываясь, реагировал: «В расход». Раздался хохот. Но шутка в финале станет все же правдой. Расстреливать будут и самих чекистов. Так работает революционная гильотина. Нет, не во французском духе, как показано у А. Вайды, но так же механически и безостановочно, как и в эпоху Дантона. Это гильотина по-русски, а значит, с помощью вечной веревки, как это было еще во времена протопопа Аввакума. Обреченных людей раздевают, ставят к стенке и стреляют в затылок. Затем мертвые тела перевязывают веревкой, чтобы удобно было их поднимать из подвала во двор отделения и погрузить в грузовик. Чтобы выстрелов в городе не было слышно, каждый раз использую патефон. Уничтожение идет под звуки разгульной песни «Ехал на ярмарку ухарь – купец». Один чекист учит другого, менее опытного, как стрелять, чтобы крови было меньше. А крови все же становится все больше, и она разливается, касаясь сапог контролирующего расстрел Срубова. Сам он не расстреливает, а лишь осуществляет за своими подчиненными контроль. Стреляет он в крайних случаях, если в этой машине уничтожения что-то не срабатывает или если у расстреливающих чекистов сдают нервы. В этом случае он стреляет сам. Так, один молоденький чекист не может выстрелить в священника. Приходится подменять.
Но нервы сдают и у «демонов революции». У кого-то из них начинается истерика, кто-то сходит с ума, решает повеситься. Тут и в самом деле способны прижиться лишь садисты. И повесился бы, если бы сослуживцы его вовремя не вытащили из петли. Что же касается самого главного палача – Срубова, то, похоже, и у него нервы сдают. В первых кадрах его еще воспринимаешь не палачом и садистом, а убежденным фанатиком, который, казалось бы, постоянно молчит, но в реальности он все время «философствует». Его «философия» связана с необходимостью принимать решения о расстрелах и эти расстрелы оправдывать. Вычитываются, например, такие отрывки из его внутреннего монолога: «По телу революции ползают паразиты. Их нужно давить… Нужен железный порядок, иначе развал… Новое не рождается без крови и мук… Стихию необходимо ввести в железные рамки закона… Революция в опасности. Мы уничтожаем противников революции. Для вынесения приговора достаточно узнать социальное происхождение…» Что-то в таком духе. Каждый раз при этом уточняется происхождение: из дворян, из купцов, из сочувствующих белогвардейцам, из пособников белому движению, из недовольных советской властью, из участников крестьянских волнений в российских губерниях…
Вначале, кажется, что Срубову этих мотивов достаточно. Но напряжение на лице палача свидетельствует – их все же недостаточно. Постепенно выясняется, что Срубов – больной человек. Среди задержанных и, следовательно, обреченных (из отделения ЧК уже никто не возвращался) попадались и его знакомые. У Срубова атрофируется нравственное начало. Он приводит домой и угощает своего коллегу по отделению, хотя ему известно, что тот расстрелял его отца. И об этом ему напомнит недовольная таким гостем его мать. Так, перед Срубовым в подвале предстанет один знакомый – друг отца Срубова – врач, навещавший его жену, поскольку Срубов считал, что она больна. Врача тоже расстреляют, и Срубов даже и не подумает, чтобы хоть как-то облегчить его участь. В последний момент, перед смертью врач, обращаясь к Срубову, скажет, что его жена здорова, что она после долгих лет жизни со Срубовым осталась девственницей. Больна не жена Срубова, а сам Срубов. На этот раз, касаясь причин такого поведения Срубова, без Фрейда не обойтись. Здесь весьма важна подробность психопатологического свойства. Срубов – импотент. На этой почве развилось извращение – садизм. Он становится не убежденным большевиком – фанатиком, а обыкновенным психопатом. Палачом, изживающим свои патологические наклонности в «подвигах», совершаемых во имя революции. А эти «подвиги» совершаются в подвале губернского отделения ЧК. Так что на «подвиги» палача Срубова толкала не только революционная убежденность, а его болезнь.
Так что: получается, что к революции деятельность Срубова отношения не имеет? Революция не виновата? Этот сюжет проходит по разряду патологии. Все же такой вывод сделать невозможно. В фильме звучит слишком определенное и, разумеется, отрицательное отношение режиссера к революции. Ведь это ее вина в том, что она из патологических типов делает своих героев и вождей. Делает, так сказать, отбор. То же по Дарвину. Кончается дело тем, что в числе задержанных в подвале оказывается и сам Срубов. Когда-то он просил называть имена задержанных, сейчас он сам оказывается на их месте и должен на этот вопрос отвечать. Отвечать, а затем быть спущенным в подвал и получить пулю в затылок. Ведь машина уничтожения затянула и его, как это вообще происходит во всех революциях, но уже не как палача, а как жертву.
Что же произошло перед этим допросом, разумеется, формальным? Палач тоже обречен. А произошло это так. В отделении ЧК стало известно, что против советской власти выступил целый полк. Это сотни военных. Это серьезно. Такой бунт от Дзержинского не скрыть. Вопрос должен решить именно Срубов. Естественно, он обязан приговорить к расстрелу людей и на этот раз. Большевикам не привыкать. Подумаешь, что их сотни. Революцию численность не остановит. Машина террора должна работать. И появляется Срубов на коне перед ожидающими смерть раздетыми военными. Все в нижнем белом белье, словно праведники в судный день. Командир пытается вымолить своим подчиненным прощение. Срубов начинает свою обычную речь, оправдывающую жертвы. Он говорит: «Революция научила наш народ умирать с достоинством…». Но вместо приговора полк неожиданно получает от Срубова прощение. В своей речи палач, кажется, пытался все же мотивировать оправдание. Похоже, что это не явь. А сон палача. А, может быть, это уже безумие. Если это и в самом деле реальность, то это-то и свидетельствует о безумии. Машина террора этого не допускает. Сломался и Срубов. Впрочем, он к этому был предрасположен.
Фильм заканчивается весьма символично. Группа военных на конях направляется к воротам. Но это какие-то странные и уж точно не триумфальные ворота. За ними не видно ничего. Ни построек, ни людей, ничего. Пустое пространство. Ворота в пустое пространство, в никуда. Совсем не в «царство небесное», как хотелось, скорее в царство Танатоса. Но всадники, а среди них Срубов – он, естественно, первый, – все же въезжают в ворота. За ними – дикое поле, в котором смерть. В таком вот поле умирал актер Евлахов из фильма К. Лопушанского «Роль». Исчезают в этом поле и герои фильма «Чекист». От революции осталась пустота. Даже садисту не удается сыграть ту роль, которую вырвавшаяся из-под контроля культуры стихия обязывает людей играть.
Если уж продолжать параллель между русской революцией и революцией французской, то созданный воображением А. Рогожкина образ патологического демона революции Срубова имеет реальный прецедент. Опять же И. Бунин: «Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон… Ленин, Троцкий, Дзержинский… Кто же подлее, кровожаднее, гаже? Конечно, все-таки московские. Но и парижские были не плохи» [43]. Если же касаться французского варианта, то вот, например, сподвижник Робеспьера Кутон, которого И. Бунин особенно выделял. У А. Вайды он, правда, – эпизодическое лицо, появляющееся в Комитете общественного спасения в коляске. Почему в коляске? Кутон – калека, инвалид, «полутруп» или, как сейчас выражаются, «человек с ограниченными возможностями». В результате ночного бегства от мужа своей любовницы он лишился ног. Двигался с помощью коляски. Став во время революции, по выражению И. Бунина, «законодателем и садистом, палачом, отправляющим на эшафот тысячи ни в чем не повинных душ» (44). Это он отправлял невинных людей под нож гильотины. И вот, внимательно вчитывающийся в текст Ленотра И. Бунин представляет: «Должно быть, жуткое это было зрелище, вид этого человеческого обломка, который несся среди толпы на своей машине – трещотке, наклонив вперед туловище с завернутыми в одеяло мертвыми ногами, обливаясь потом и все время крича: «Сторонись!» – а толпа шарахалась в разные стороны в страхе и изумлении от противоположности между жалким видом этого калеки и тем ужасом, который вызывало одно его имя» [45].
Таким образом, не верно ли было бы утверждать, что революция 1917 года вернула Россию к еще более жесткой форме, чем та, которую революция ставила своей целью разрушить и упразднить. Иначе говоря, преодолевая весь петровский и постпетровский периоды истории, революция возвращала Россию в средние века. Не случайно Н. Бердяеву показалось, что в первых десятилетиях ХХ века в истории начинается «новое Средневековье». Да и не только Н. Бердяеву это показалось. Революцию следует рассматривать в контексте не политических идей и их реализации в виде цепи революций в Новое время, как это обычно историки и делают, а в контексте тех потрясений в русской истории, что связаны с радикальными поворотами, которые у русских историков обозначены как смута.
Революцию не следует даже рассматривать в контексте истории религии, как признает Н. Бердяев в своей книге о Достоевском. Ее следует рассматривать в контексте циклических вспышек варварского возрождения, что допускал еще Д. Вико. Иначе говоря, в русской революции повторяется то, что некоторые авторы обозначали как «разиновщина». Русская революция и является очередной волной такой «разиновщины» или смуты. Не случайно И. Бунин в связи с революцией вспоминает средние века, а также мысль В. Ключевского о повторяемости в российской истории. «Конечно, – пишет И. Бунин, – коммунизм, социализм для мужиков, как для коровы седло, приводит их в бешенство. А все-таки дело заключается больше всего в «воровском шатании», столь излюбленном Русью с незапамятных времен, в охоте к разбойничьей, вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч отбившихся, отвыкших от дому, от работы и всячески развращенных людей» [46].
Подобные волны накатывают лишь тогда, когда в истории масса становится весьма активной и прибегает к той или иной идее, чтобы выразить свой, как называл это Ф. Ницше, ressentiment. Вот и мы в легендарной революции 1917 года улавливаем лишь очередное проявление смуты, тем более, что некоторые авторы, когда они обращаются к этой революции, называют ее смутой. Например, один из руководителей белого движения в годы гражданской войны А. Деникин свою книгу, посвященную революции 1917 года, так и называет «Очерки русской смуты». Но раз смута и раз мы имеем дело с повторением смуты, то русская революция 1917 года вернула Россию в средние века, во всяком случае, в ХVII век. Тем более, что некоторые авторы в этом направлении уже проторили дорогу.
Так, пытаясь разобраться в истории России ХХ века, В. Топоров утверждает, что ситуация ХХ века весьма похожа на то, что происходило на Руси в ХVII веке. «Через пять веков после освобождения от татарского ига и через три века после того, как Московская Русь сошла с исторической сцены, – пишет В. Топоров, – в наши дни, когда границы России стали удивительно напоминать очертания Московской Руси между Столбовским миром и приобретениями, сделанными при царе Алексее Михайловиче, и, более того, явно обнаруживается тенденция к образованию «прорех» внутри пространства, к которому, казалось, навечно приросло определение «российское», среди упадка, настроений, бедствий и раздоров, именно теперь необходимо увидеть и уяснить себе то, на что не хватило ни времени, ни желания, ни мужества духа в спокойные и благополучные два века – ХVIII и ХIХ, как раз и отделяющие нас, неблагополучных, от ХVII века» [47].
Вообще, замечательный ученый убежден в том, что обращение к истории, подобно взгляду на себя в зеркало, позволяет видеть в себе то, что без зеркала не разглядеть, что невидимо. А главное, у зеркала есть преимущество: оно позволяет понять те факты, которые в силу отсутствия исторической дистанции непонятны и потом также позволяет разглядеть уже будущее и кое-что предсказать. Увы, так оно и получается. В самом деле, ситуация, сложившаяся в России с середины 80-х годов прошлого века, так похожа на то, что пришло в Россию с начала Французской революции. Правда, в начале этого столетия возникшие процессы протекали в ускоренном ритме. Революционная вспышка закончилась большевистской диктатурой. В последние десятилетия реальность, знакомая по Французской революции, заняла почти три десятилетия.
Но вернемся к ХVII веку. Просто утверждать, что смута первых десятилетий ХХ века в России повторяет смуту ХVII века, пустое дело. Необходимо ставить вопрос о том, а что же именно роднит эти два столетия. Смута, если это, действительно, смута, т.е. по выражению многих, «беда», – это прежде всего голод и насилие. Вот что пишет, опираясь на разные источники, В. Топоров. «Но жестокость, одно из основных зол русской жизни, как бы отпускаемое на волю в смутные времена, – от людей. Иностранных наблюдателей – и заезжих и живущих в Москве – не раз поражала эта жестокость, не знающая меры и предела, не соотносимая даже как наказание с виной, слепая, тупая, бессмысленная, при которой быстро достигалась та точка, в которой садизм по отношению к другому соединялся, сливаясь с собственными мазохистическими чувствами, – и тем быстрее, чем случайнее, безвиннее, безответнее, а иногда и ближе была жертва. Речь шла не просто о враге, о другом, но часто о близком другом, даже о своем – жене ли, ребенке ли или младшем брате. Источник начала ХVII века рассказывает, как мучили жертву в его время: рот набивали порохом и поджигали его, другим порох набивался снизу; женщинам перерезывали груди, продевали в раны веревки и вешали на них. Другой источник того же времени сообщает, как во время войны с «ворами» (движение Болотникова) поступали с пленными. Учитывая нехватку тюрем, Василий Шуйский распорядился всех «воров, как пойманы на бою «утопить» или, как деликатно сказано, «посадить в воду»; пленных топили «Бьючи палицами». Но и со «своими» (будущими «нашими») не лучше, и размах тот же: «Московских людей натура не богоязливая, – пишет Котошихин, – с мужеска полу и женска по улицам грабят платье и убивают до смерти; и сыщетца того дни, как бывает царю погребение, мертвых людей убитых и зарезанных болши ста человек». Само государство узаконивает жестокость, регламентируя не столько степень наказания, сколько разнообразие их, и сдабривая описания пыточных ужасов утомительной канцелярской добросовестностью» [48].
Не узнаем ли мы в этой картине ужасы красного террора, описанные Мельгуновым? Мимо этого не может пройти в своей «Социологии революции» и П. Сорокин. Когда он сопоставляет ужасы революции с тем, что происходило в России в ХVII веке, он не случайно обращается к «Истории» Н. Карамзина, а тот опять же, чтобы продемонстрировать зверства и садизм, характерные для смуты ХVII века, ссылается на А. Палицына. «Сердце трепещет от воспоминания злодейств: – пишет тот – там, где стыла теплая кровь, где лежали трупы убиенных, там гнусное любострастие искало одра для своих мерзостных наслаждений. Святых юных инокинь обнажали и позорили. Были жены, прельщаемые иноплеменниками и развратом» [49].
Сопоставляя вслед за В. Топоровым смуту ХVII века, мы вовсе не отклоняемся от уже современных настроений. Есть основания полагать, что атмосфера, столь свойственная времени Французской революции, сегодня в России иссякает, и Россия движется к какой-то новой фазе истории. Все свидетельствует о том, что градус насилия и жестокости повышается. Танатос снова ощущается в воздухе. Не этим ли объясняется сегодня популярность повести В. Сорокина «День опричника», в которой эта самая тема насилия как раз и оказывается на первом плане. Кстати сказать, писатель превосходно воспользовался приемом остранения. В повести действие развертывается то ли в современной России, то ли в эпоху Ивана Грозного. Конечно, опричнина – это не ХVII век, но ведь то, что проявилось в этом веке, уже имело место в эпоху взрыва апокалиптических настроений и возведения в эпоху Ивана Грозного «третьего Рима». Это все то же Средневековье. То, что М. Захаров поставил по этой повести спектакль, тоже о многом говорит.
Появившиеся в последние годы фильмы о революции, конечно, друг от друга отличаются. На вопрос, заданный в фильме М. Хуциева, каждый режиссер отвечает так, как он считает необходимым. Десакрализация революции развертывается полным ходом. Так, например, фильм А. Федорченко «Ангелы революции» хотя по своим конечным выводам и близок фильмам К. Лопушанского и А. Рогожкина (революция кровава и разрушительна), тем не менее, излагает события не без иронии. В фильме ощутима карнавальная интонация. Впрочем, карнавализация сопровождает революционные вспышки. Это имело место не только в России. В фильме А. Рогожкина в подвале, не переставая, работает гильотина по-русски, а на улицах люди веселятся и поют песни. Карнавал!
Фильм, собственно, не воспроизводит события, связанные с революционным террором. Действие его происходит на далекой окраине страны, в северном местечке Казыме, где обитают древнейшие этносы хантов и ненцев. С первого же кадра режиссер сообщает дату. Это 1934 год, т.е. год 17-й годовщины революции. Эту дату здесь будут торжественно отмечать, к этому готовятся. Например, с помощью «Наркомнеба» жители могут даже подняться в небо на воздушном шаре, чтобы убедиться, что никаких богов не существует. Большевики ведь – безбожники, атеисты. Они и всех должны убедить, что бога не существует. Поэтому они сбрасывают с пьедестала Христа и возвеличивают Иуду. Но в этих языческих местах атеизм прививается туго. Большевики внедряют новые порядки, но они отторгаются. Ответственное лицо жалуется: эти ханты и ненцы - странные люди. Мы им строим школы, а они не хотят учиться. Открываем больницы, они не хотят лечиться. Наконец, на озере нельзя ловить рыбу. Утверждают, что их богиня не разрешает. Тут все решают шаманы как посредники между богиней и людьми. В Казыме продолжается власть языческой богини, а не советской власти.
Эту несовместимость старой и новой власти необходимо как-то преодолеть. Большевики языческую веру сохранить не позволяют. Они требуют своей веры. С этой целью представители столичной власти направляют в Казым известную революционерку Полину Шнайдер. Также, как и Землячка в фильме Н. Михалкова, она, наверное, тоже могла быть приговоренной к смертной казни. Ведь у Полины Шнайдер перед революцией большие заслуги. В чем она только не принимала участие, чтобы разжечь мировую революцию, какие бы народы не обращала в новую веру, ей все удавалось. Это было романтическое время. А все началось с того, что когда-то еще задолго до революции, когда она была еще ребенком, ей дали пистолет, и она удачно выстрелила. С тех пор она все время стреляла. Революция придала ее увлечению, ее страсти н легальную форму. Но стреляла она не по мишеням, а уже по людям. Пока сама не оказалась, как Срубов в фильме А. Рогожкина, перед революционным трибуналом.
Но революция выкидывает трюки даже с такими преданными ее рыцарями и верными исполнителями. Вот и Полина Шнайдер оказалась потерпевшей от революции. Ее чуть саму не расстреляли. В начале фильма есть весьма красноречивый эпизод. Когда она появилась во властном учреждении, ее узнал часовой. Удивившись ее появлением, он задает вопрос: «Вы живы?». В ответ прозвучало: «Мы уже давно умерли. А теперь пришли за вами». Итак, революция продолжается, и нет ей в России конца. Такой вот весьма своеобразный революционный юмор. А ведь и вправду придут и в конце 30-х уже и приходят. Снова начнется гильотина по-русски, как это показано у А. Рогожкина.
Полина Шнайдер получает приказ окончательно утвердить в Казыме советскую власть. Она наберет из интеллигенции бригаду миссионеров новой религии, куда войдут поэт, актер, художник и кинорежиссер. Молодые романтики, поклонники и представители революционного авангарда убеждены, что приобщить хантов и ненцев к советской власти способно лишь искусство, ведь красота выше идеи. Но Казым находится не только в средних веках, но еще во власти куда более древней религии. Там еще не исчезли шаманы. Начинается окультуривание затерянных на окраине новой империи народов. Например, аборигенам устраивают выставку супрематизма в живописи. Параллельно этой напряженной деятельности миссионеров развертывается история тех дел, к которым была причастна Полина Шнайдер и которые свершились до казымского инцидента. Например, открытие безбожниками памятника Иуде Искариоту. Иуду художник изобразил в виде одного местного мужика. Узнав себя в каменном Иуде, тот повесился. Такой вот революционный юмор.
В конце концов, людям в Казыме прививают новый обычай – не зарывать умерших в землю, а сжигать. Жителям представляют проект крематория, что преподносится как революционное новшество, как прогресс. Ведь огненные похороны - демократическая вещь. Они будут доступны каждому. Почему огненное кладбище выгодно? Потому, что оно не будет мешать строительству светлого будущего, ведь на земле вырастут новые города. Города появятся не только на земле, но и на небе, откуда будет изгнан бог. Воспроизводится вот такой эпизод. В один из московских театров прибывает чекист, чтобы арестовать актеров. Режиссер, ведущий репетицию, спрашивает, по какой причине. Ответ такой: поступила информация, что актеры из латышей готовят мятеж. Режиссер говорит: тогда и меня с ними арестуйте. Чекист на это отвечает: вы ведь не латыш, а еврей. И далее следует весьма «остроумное» словцо – «Позже!». Все верно, позже обязательно возьмут и, как в фильме А. Рогожкина, сведут в подвал и там выстрелят в затылок.
Все эти замечательные диалоги и реплики напоминают шутки зазывалы в балагане. Вообще, революция у А. Федорченко представлена как балаган, а балаган ведь опять же древнее и любимое массой зрелищное представление. Вот в этом духе и ведется повествование у А. Федорченко. Режиссер и не скрывает того, что он воспользовался тем самым приемом остранения, что известен по сочинениям формалистов. У него действие прерывается сценами из кукольного театра, т.е. балагана. В них куклы – ханты бьются с куклами – чекистами. Ханты, конечно не побеждают. В традиционном балагане современность ведь тоже прорывалась, в те же самые прибаутки балаганного зазывалы. Но у А. Федорченко наоборот: в современность прорывается балаган.
Но кончается он, несмотря на карнавальную интонацию, все-таки скверно. Шаманы сообщают жителям Казыма: советской власти не быть. Богиня не разрешает. Что нашим романтикам делать? Они предъявляют ультиматум: или устраняем богиню или прилетят самолеты и разрушал все ваше селение. Ханты и ненцы отступают, они уходят от советской власти в тундру. Но оставляют на сцене трупы наших революционеров – романтиков. Представление осталось незаконченным. Естественно, советская власть умеет мстить. Революционная месть страшна. Жители Казыма расстреляны.
Фильм заканчивается тем, что в кадре появляется древняя старая женщина, которая еле передвигается. Она исполняет современную советскую песню. Диктор комментирует: это дожившая до наших дней «первая девочка советской Югры». А на экране появляется то место, в котором когда-то происходила миссионерская деятельность Полины Шнайдер и ее сподвижников. Место, в котором изживалaсь интеллигентская романтическая утопия. Эту местность не узнать. На этом месте – большой современный город. Так что же: советская власть все же взяла свое? Привела языческий народ в светлое будущее. Как тут не вспомнить суждение А. де Токвиля о том, что история (именно история, а не революция) все равно берет свое, но это свое приходит не сразу, поскольку эволюция, исключающая революцию, развертывается медленно. Зато без жертвоприношений. Зато в соответствии с гуманизмом. Но революционное поколение, представленное Полиной Шнайдер и ее сподвижниками ждать не может. Хотелось приблизить будущее как можно быстрей. Поэтому революция и покатилась как «красное колесо». Балаганная интонация, о которой говорит И. Бунин, в революции в фильме А. Федорченко уловлена и передана. Вот еще один ответ на вопрос: как ты относишься к революции. Ответ от поколения начала ХХI века, спустя столетие после ее свершения.
9. Проблема революции как проблема самосознания народа и как проблема коллективной идентичности
Рассматривая общую тенденцию обращения режиссеров последних десятилетий к теме революции и формулируя ее как десакрализацию революции, мы, однако, вовсе не считаем, что проблема, поставленная русской революцией, разрешена. Изображение всех этих ужасов, чем полны фильмы упомянутых режиссеров, конечно, воздействуют. Однако существуют мощные механизмы, которые этой десакрализации препятствуют. А вот это связано с коллективной идентичностью, которая, с одной стороны, питается реальными историческими событиями, а, с другой, как уже отмечалось, виртуальной стихией. Ответ на этот вопрос приходится давать уже нашему поколению. Только вот оптимизма по поводу устранения несовпадения, кажется, быть не может. Другое дело, что эти трудности все-таки можно попытаться объяснить.
Как нами уже показано, отечественный экран первой половины ХХ века даже в лучших своих проявлениях транслировал в революции не только реальное, но и виртуальное. Но виртуальное ведь вовсе не означает, что это никогда не существовавшее, исключительно воображаемое. За этим виртуальным тоже оказывается какая-то реальность. Какая же? Видимо, как можно предположить, это тот самый миф, который в сознании русских давно существует и даже получает выражение в самых разных, в том числе, некинематографических формах. Может быть, он-то и контролирует восприятие и оценки революции. Можно представить, что именно он в революции не позволил видеть ее негативные проявления, заставлял закрывать глаза от тех зверств, той жестокости, на которые оказался способным человек в революционной ситуации.
Почему же у этого мифа такая суггестивная сила, такое могущество, что человек оказывается глухим и слепым, что у него атрофируется зрения? Мы здесь пытаемся поставить не какую-то отвлеченную, академическую проблему или проблему, которая за давностью лет кажется уже неактуальной. Да нет, она все еще актуальна. Мы по-прежнему продолжаем пребывать в слепоте по отношению и к революции, и к гражданской войне, и даже к эпохе Сталина. Да, в общем, и к тому, что сегодня происходит на наших глазах. Миф революции все еще силен и не позволяет видеть настоящее во всей его глубине. Если мы до конца не осознали, что принесла с собой революция, какие она имела последствия, то у нас нет ключа и к тому, что развертывается перед нашими глазами. Мы по-прежнему слепы.
Так что же это за миф, определяющий восприятие революции и какого его содержание? А это может быть некогда в истории усвоенное представление народа о самом себе, его коллективная идентичность. Это его идеальный образ, который для народа стал более значимым, чем реальное настоящее во всех его проявлениях. И вот этот образ определял восприятие революции. Он продолжает диктовать то, что во всем увиденном и услышанном люди делают жесткий отбор. В их сознании существует что-то вроде невидимой цензуры, которую никакая власть не устанавливала, но она все же существует и многое определяет. Определила она и восприятие революции. То, что мы обычно подразумеваем под цензурой и что с некоторых пор в России снова становится актуальной проблемой, – это все от власти, от бюрократии, от административной системы, которая в последние годы заметно активизировалась. Мы же под цензурой в данном случае имеем в виду нечто другое, а именно, категорический императив в ментальной форме, который отсутствует в форме предписания или закона, но от этого его действенность оказывается не менее активной. Она не существует в юридической форме, но существует в форме психологический и архетипической.
Конечно, цензура в институциональном, т.е. в бюрократическом смысле может находится в тесных отношениях с той, которую мы имеем в виду, более того, даже находиться под ее давлением, тем не менее, это все же совсем другое. Мы уже отметили, что цензура в нашем смысле – это способ самоидентификации народа, но не только. Если хотите, то это в то же время и способ выживания народа, что не противоречит его самоидеализации. В этом-то и драма, даже трагедия. Самоидеализация – это именно средство выживания. Это основа коллективной идентичности. Получается драматическая ситуация: разрушение идеального образа революции необходимо, чтобы представить всю правду о ней. Но на ее восприятии лежит печать ее идеального образа, а он – краеугольный камень нашей коллективной идентичности.
Видимо, народ существует до тех пор, пока его идеальный образ, на котором базируется мораль, не разрушается. Разрушение этого образа – разрушение идентичности, а, следовательно, вообще российской цивилизации. А что и кто может его разрушить? Его может разрушить тот, кто выходит за пределы представления народа о самом себе, за пределы всеми разделяемой коллективной идентичности. Это положение можно проиллюстрировать концепцией З. Фрейда, которая, как известно, в момент появления отвергалась и представителями науки, и вообще европейским мещанским большинством. Уж слишком неудобной предстала в его сочинениях правда о природе человека. Такое разрушение идентичности может происходить в формах искусства. Например, художественного авангарда.
Русский авангард не слабее западного. Может быть, даже радикальнее. Он многое проиграл даже раньше, чем западный. Вот К. Лопушанский и затронул эту проблему. Перестать создавать художественные ценности и начать строить саму жизнь – эта идея овладевает и его героем. Но только вот последствия этого оказались столь трагичными. Традиция изображения революции в советском кино рождалась в формах авангарда. Авангардное кино, а оно в 20-е годы и было таким, не существует без разрушения коллективной идентичности. Не случайно авангард ненавидели до середины 80-х годов ХХ века. Мы помним, как полотна авангардных художников уничтожали с помощью трактора. Но как разрушить коллективную идентичность? А просто: нужно перечеркнуть историю, прошлое, традиции, веками складывающиеся устои жизни, наконец, культуру. Все, что связано с прошлым должно быть преодолено. Начнем жить с чистого листа. В этом случае показателен другой фильм С. Эйзенштейна «Старое и новое». Попробуйте этот фильм сравнить с фильмом С. Говорухина «Россия, которую мы потеряли».
Такое разрушение и отрицание в истории всегда имело место в переходные эпохи. Но история свидетельствует, а А. де Токвиль подтверждает, что, спустя время, народ возвращается к отвергнутому в революционной ситуации и пытается вернуть и восстановить то, что сам же и разрушил. Так случилось и с советским кино. Но только ли с одним кино? Если в 20-е годы (культура Один по В. Паперному) отрекались от прошлого, то в 30-е годы (культура Два по В. Паперному) его пытались вернуть. Все началось, как это не покажется странным, со Сталина. Об этом свидетельствует создание многих фильмов о знаменитых людях, полководцах, героях войн в российской истории и т. д. Перечеркнутая русская история возвращалась. Это десятилетие в кино свидетельствовало: авангард отработал. Именно авангард с его нигилизмом и разрушительной энергией спровоцировал вспышку консерватизма.
Так всплывает кинематографический образ Ивана Грозного, которого в последнее время тоже часто вспоминают. Такая вспышка наступает, когда энергетический фактор массового движения как основа выхода за пределы рационального восприятия иссякает. Такой момент в истории революции неизбежно наступает. Повышенная экзальтация спадает. Вообще, историю революции П. Сорокин делит на два периода. На первой фазе революции имеет место повышенная эмоциональность («Бесконечные манифестации, празднества и пляски» [50]). У С. Эйзенштейна в «Октябре» лихо танцуют лезгинку солдаты из «дикой дивизии». На второй фазе возникает усталость, истощение («Буйное состояние сменяется пассивностью, подавленностью и безразличием» [51]). Когда П. Сорокин писал свою книгу о революции, он еще не мог описать ее перерождение в тоталитаризм, в диктатуру. Это все проявится позднее, а именно, в 30-е годы. Но это что касается русской революции.
Когда ученый пишет свою книгу, то русскую революцию он сопоставляет с другими революциями, в том числе, и в первую очередь с французской. Его ведь тоже интересует то, что показал А. Вайда в фильме «Дантон», а именно перерождение революции в диктатуру, переход революции от одной фазы к другой. Вот и П. Сорокин описывает психологическую почву для установления диктатуры и прихода диктатора. Это никакой не отдельный период истории, а все то же. Революция продолжается. Эпоха Сталина – не самостоятельная эпоха. Ее невозможно изучать отдельно. Психологический корень этой эпохи находится в революции. Диктатура Сталина – продолжение ленинского периода в истории революции. В этом был убежден и А. Солженицын. Кажется, что революция закончится со смертью диктатора. Да, закончится. Но заложенная, точнее, подтвержденная революцией ментальная традиция уже никогда не исчезнет. Имея в виду возникающую подавленность в массе, П. Сорокин пишет: «Во второй период революции с иссяканием энергии и торможением это сразу и проявляется. Общество становится совершенно «безвольным» и «бесхарактерным». Оно делается неспособным к какому бы то ни было активному усилию. С ним можно делать что угодно. На этой-то полной волевой вялости и расцветают пышно роскошные цветы красной или белой диктатуры и тирании. Она бьет общество беспощадно, оскорбляет, мучает, терзает и хлещет его «в нос и в рыло», и… общество покорно сносит эти удары. У него не находится даже энергии для громкого протеста» [52].
Эти строки ученого-позитивиста прямо воспроизводят известные поэтические образы О. Мандельштама. Эту структуру психики П. Сорокин описывает как временную структуру. Ведь он много внимания уделяет тому, что на второй фазе революции происходит утомление, усталость, иссякание энергии. Люди становятся пассивными и безразличными к тому, что происходит. Вот тогда-то и наступает время диктатуры и диктаторов, в еще большей степени гипнотизирующих людей и многое делающих для того, чтобы люди по-прежнему не отличали реальное от виртуального. Виртуальности становится еще больше. Так началась сталинская эпоха, эпоха то ли продолжения революции, то ли контрреволюции.
Люди не успевают осознать совершенное ими на первом этапе революции, не успевают применить к революции критический подход. Они уже вновь оказываются в ситуации смещения реального в виртуальное. Да и возвращения в реальное еще не успевает произойти. Так было продолжено время активности архетипа, который постепенно приобретал государственную, а еще точнее, имперскую форму. То, что можно было бы назвать в революции дефектом восприятия, со всей определенностью проявилось именно в революции, которая в памяти последующих поколений осталась в легендарной ауре, т.е. так, как ее изображали идеологи и пропагандисты. Писали, конечно, немало и другого. Но ведь нужно иметь в виду активность цензуры. Долгое время до последующих поколений эти источники не доходили. Поэтому аура революции способствовала формированию однобокого, исключительно оптимистического по отношению к ней представления.
Но дело тут не только в идеологии и пропаганде. Дело во вторжении в эту ауру виртуального. Имеет место реальность, которая, как было уже сказано, будет, пожалуй, посильнее пропаганды. О ней-то и хочется сказать. Но уже с несколько иной стороны, в частности, с точки зрения имперского комплекса. Конечно, эту активность виртуального начала можно объяснить чисто психологически, т.е. принять во внимание исключительность сознания людей, вышибленных революцией из повседневной реальности. Но этого недостаточно. Нужен психоаналитический подход, причем, в варианте К. Юнга. Все, что мы до сих пор сказали о виртуализации как активном факторе восприятия, является абстракцией, т. е. теорией. Сейчас необходимо продемонстрировать архетип революции более конкретно.
То, что человек не видит того, что перед его глазами и воспринимает это совершенно иначе, чем это бы следовало, нуждается в более глубоком объяснении. Ведь, обращаясь к революции и находя в ее восприятии момент виртуальности, мы получаем доступ к чему-то большему. Это ведь не просто какой-то дефект восприятия. Это реальность нашей идентичности, коллективной идентичности. Культурно-историческая основа этого «дефекта» лежит явно не в начале ХХ века. Она была вызвана к жизни гораздо раньше, да так и осталась, застряла в подсознании. Это не только проблема власти, но это «не только», как правило, не подлежит сомнению. Видимо, в революции это обстоятельство лишь проявилось, упрочилось, так сказать.
В наших представлениях о революции бросается в глаза то, что из них изъято все, что связано со зверством, жестокостью, насилием, садизмом, даже каннибализмом, о котором мы не говорили. А ведь каннибализм в революции тоже имел место. «Не только морально – правовые и религиозные рефлексы, тормозящие убийство, – пишет П. Сорокин, – но временами даже более сильные рефлексы, удерживающие людей от людоедства, гаснут в эпоху революции. Россия с ХV века знала много жесточайших голодовок. Но только во время двух из них людоедство принимало массовый характер: в 1601-1603 и в 1921-1922 годах, т.е. в годы социальных смут и революций» [53].
П. Сорокин, посвятивший проблеме голода целое исследование, не мог этого не зафиксировать. Но его суждение примечательно тем, что оно подтверждает ранее нами процитированное суждение В. Топорова о созвучности ХVII и ХХ веков. Существует множество примеров, как раз иллюстрирующих эту темную сторону революции и свидетельствующих именно о варварском Ренессансе, «соскальзывании», как бы выразился C. Эйзенштейн, на более ранний уровень исторического развития. А ведь в наш ХХI век, увлекающийся цветными революциями как способом утверждения либерализма во всем мире как раз этим регрессом и знаменит. Дело не только в том, что, лишаясь энергии, человек после революционной вспышки становится пассивным, но и в том, что он добровольно склоняется перед диктатором, спешит подчиниться тому, против которого недавно восстал. Этого, кстати, не замечает П. Сорокин, но этот комплекс восставшего раба разгадал еще Ф. Достоевский.
Здесь возникает еще одна проблема - уже не слепоты. Масса видит лишь то, что соотносится с идеальным образом, с коллективной идентичностью, не противоречит ему, согласуется с ним. Дело не только в видении, но и в мировосприятии. Представим себе, как мыслит человек в соответствии со средневековой традицией. Он готов принести в жертву свою свободу ради того, чтобы сохранить коллективную идентичность и ее поддержать. Да, он готов отречься от себя, готов стать несвободным. Зато его мечта, его идеал предстанут в институциональном виде, т.е. в государстве. Ради него он готов жертвовать своей свободой. Что же такое эта коллективная идентичность, в каких предметно-материальных и чувственных формах она в истории предстает? Конечно, в государственности, которую все великие историки сделали предметом исторической науки. Ну, а если конкретней, то такой формой выражения коллективной идентичности массы становится империя как символ мощи.
Почему же именно империя, а, скажем, не республиканская традиция, которая когда-то в средние века, если вспомнить новгородское вече, тоже имела место. Почему в России власть, т.е. государство была сакрализована, представ в форме империи? Такой сакральной аурой государство наделила масса, а не Сталин. Он психологию массы лишь использовал. Это трудно понять, если иметь в виду лишь тот период русской истории, который связан с петровской империей, т.е. петербургским периодом русской истории. Нужно подключать к объяснению функционирование архетипа в предшествующие эпохи истории. Архетип российской власти в ее сакральном выражении сформировался гораздо раньше, а именно, в средневековой Руси. В революции самое парадоксальное – это то, что революционерами в стране было уничтожено все, что мешало свободе, что сохранялось еще от средних веков. Но в реальности, в психологической реальности прежде всего революция освобождала лишь средневековый комплекс. Но психологическая реальность может стать основой социальной реальности. Она институционализирована в империи. Она предстает в форме власти. Власть не возникает в вакууме. Она лишь реализует тот ментальный архетип, который существует в подсознании массы. Парадокс: революция стремилась окончательно разорвать со Средневековьем, а на самом деле, она предоставила ему свободу проявления, его возвращала. Если на уровне сознания революция воспринималась в просветительском духе и упаковывалась в концепцию Маркса, то на уровне подсознания она возрождала средневековую ментальность. Хотели свободы от Средневековья, а получилась свобода проявления Средневековья. Сработал психологический механизм.
10. Доосевые и осевые архетипы.
Актуализация средневекового архетипа в русской революции
Архетип российской власти формировался в ситуации, когда возникла традиция осмыслять историю в апокалиптическом духе. Для этого были веские причины. Мы не поймем смысла революции, как и ее восприятие массой, если ее не соотнесем с ситуацией, когда формировалась коллективная идентичность народа, а именно, со Средневековьем. Тут необходим генетический подход. Конечно, революция – это взрыв архаики, реабилитация комплексов доосевой эпохи, когда то, что Кант называет «практическим разумом», т.е. системой нравственности, еще не успело сложиться. Революция выводит в реальность те комплексы, что возникли в доосевую эпоху. Но революция актуализирует и те традиции, которые возникли в осевую эпоху, когда система нравственности, а следовательно, и культура уже была реальной. Средневековье на Руси – это одна из мощных исторических и культурных традиций. И она все еще остается воздействующей. Мы поговорим о ней более конкретно.
Это была эпоха распада византийской империи, многое, если не все, как это утверждает К. Леонтьев, успевшей передать средневековой Руси. Византия передала Руси, в том числе, и форму коллективной идентичности, представшую в империи. Чтобы определять судьбу других народов, как это было в Древнем Риме, а затем и в Византии, нужно быть сильным. Эта идея на Руси возникает в средние века. Собственно, она даже не возникает, а заимствуется и впечатывается в мировосприятие русских. В ней ощущается драматизм времени. И не только переживание печальной участи самой Византии, но и внутреннего положения Руси, когда уже возникло предчувствие великой переходности и смуты ХVII века, которые у П. Сорокина получают обозначение «русская революция ХVII века» со всеми ее преступлениями, насилием и жестокостью. В этом столетии уже осуществилась, так сказать «проба пера».
В ситуации смуты ХVII века уже случилось предвосхищение всех последующих русских революций. Не случайно описание пребывания протопопа Аввакума в северной ссылке напоминает описание архипелага ГУЛАГа Солженицына или Шаламова. Да, и В. Топоров, как мы помним, утверждает, что русский ХХ век смотрится в век ХVII как в зеркало. Это был первый шаг к последующей истории расчеловечивания или истории, как говорит М. Фуко, исчезновения человека. Формулируя проблему так, т.е. представляя ее как включение реального события во вневременную матрицу, т.е. в архетипический образ, мы обязаны точнее представить, что это за архетип. А это византийская традиция, от которой, как утверждает А. Тойнби, рухнула и сама Византия как империя и от которого могут погибнуть те народы, которые византийским установкам следуют. Так, он пишет: тоталитарная организация византийского общества подавляла все предпосылки к творчеству и привела цивилизацию средневековой Византии к преждевременному краху [54].Ученый предупреждает: сохраняя византийскую традицию, Россия может повторить судьбу Византии [55].
Этот образ Византии, которая пережила в свое время, пока ее не разграбили и не уничтожили даже не турки, а западные крестоносцы, свой Ренессанс и свою мощь, что ставило ее до «цветущей сложности» Запада в положение цивилизации – лидера. В средине века Россия примеряла этот утрачиваемый Византией образ на себя. Второй Рим трансформировался в Рим третий. Возникал «третий Рим», а это означает, что если в соответствии с этим образом себя помыслить, то возникает образ народа, от мудрости, силы и мощи которого зависит судьба всего мира. Казалось бы, что нам Гекуба, т.е. «третий Рим», ведь это Средневековье. Это, следовательно, давно ушло в прошлое. Но архетипическое истолкование истории ХХ веке как нового смутного времени и, в том числе, революции предполагает реабилитацию средневековых образов. Вот и А. Тойнби такие скачки во времени не кажутся натяжкой. «Как под Распятием, так и под серпом и молотом, – пишет он, имея в виду русский ХХ век Россия – все еще «Святая Русь», а Москва – все еще «третий Рим» [56]
Коллективное сознание русских воскрешало революцию сквозь призму той ментальной матрицы, которая на Руси сформировалась еще в эпоху распада и исчезновения византийской империи, от которой русские так много взяли – и не только соборы и иконопись, но и установки религии, и образ власти. Когда события ХХ века, в том числе, и революцию пытаются понять, вспоминают мессианскую идею, идущую от Средневековья. Но славянофилы этот мессианизм не выдумали. Оно в коллективном сознании массы уже было. Мессианизм как признак ментальности русских возник не в ХIХ веке, а гораздо раньше, а именно в средние века. Это следствие веры в то, что Россия стала «третьим Римом», а, следовательно, она приняла ответственность не только за судьбу собственной государственности, но и за судьбу других народов. Такой вывод следует из исторической традиции, которая начинается с Рима первого.
Создателем идеи третьего Рима следует считать старца Елеазарова монастыря Филофея. Эта идея оказалась в основе государственной политики Руси ХVI века. Для мышления Филофея характерно то, что им была усвоена мысль о Риме как последнем царстве или последней монархии. Эта мысль была извлечена из книги пророка Даниила, в которой говорится о последовательно появляющихся в мире четырех царствах, поражающих своей мощью, но, тем не менее, в конечном счете, разрушающихся. Таков божий промысел. Ни одному царству кроме Рима не суждено быть вечным. А почему суждено быть вечным именно Риму? Да, потому, что Рим – языческое царство, сделавшееся христианским. Став христианским и распространившись на большую часть мира, он превратился в хранителя истинного христианства. Эту эстафету хранителя Рим передал Византии. Но, как известно, в ХV веке Византия исчезла. Кто же эту эстафету подхватит? Конечно, следующее православное государство как наследник Римской традиции, т.е. Россия. В этом случае преемственность сохранится.
Что же способствовало утверждению этой идеи, которая вскоре станет идеологией? Прежде всего, конечно, обновление и возрождение Руси, которая вместе с Киевской Русью не исчезла. Русь возродилась в виде средневековой монархии. Возродилась и укрепилась, а потому остро встал вопрос об определении ее места в мире. Идея богоизбранности, исключительности народа, способного сохранить христианскую веру, что Филофей доказывал, власти нравилась. Она оказалась в основании и мессианской ментальности русских и присущего ему имперского комплекса. Частью этого мессианизма оказалась и сакрализация власти, в том числе, имперской. Понятно, что такая аура возникла в истории задолго до революции 1917 года. Как мы стараемся показать, в революции проявилось именно то, что уже имело место и раньше. Не случайно в связи с этой революцией В. Булдаков затрагивает вопрос о сакрализации новой власти [57]. Причем, нужно воздать автору должное, он проницательно улавливает начавшуюся в революционном хаосе десакрализацию власти и как реакцию на нее распространение насилия в средневековых формах.
Но это все признаки первой фазы революции. Революционная стихия затмила разум. Все думали, что с падением старой власти наступит свобода и процветание. Но старая власть – носитель сакрального начала. Разрушение памятника Александру III, показанное в фильме С. Эйзенштейна «Октябрь», – знак иссякания сакрального начала старой власти. Власть десакрализуется. Но вместе с этим разрушается коллективная идентичность. Следствием этого является разгул насилия, а, следовательно, возникновение негативной идентичности. В. Булдаков пишет: «Групповые изнасилования принимали иной раз характер запредельного стадного садизма. Власть вынуждена была даже в ответ применить смертную казнь» [58]. Если во внимание не принимать негативные последствия десакрализации власти, то не будет ключа к объяснению того, почему Сталин пришел к власти и почему террор продолжался. Со Сталиным возвращалась сакрализация власти, а, следовательно, преодолевался хаос. Но ведь это означает, что с ним происходит возврат в архаику, т. е. в Средневековье. Хочется сказать, вместе с преодолением хаоса спадал террор. Но он не спадал. Новой сакральной власти позволено все.
Объяснение этого феномена может быть лишь генетическим. Нужно понять, когда эта психология возникла и как она на разных этапах истории проявлялась. Ставя это вопрос, мы снова оказываемся в средневековой Руси, в эпоху возникновения ауры «третьего Рима». «Ибо старого Рима церковь пала по неверию ереси Аполлинария, – пишет старец Филофей в своем послании великому князю Василию, – второго же Рима, Константинова – града, церковные двери внуки агарян секирами и оскордами рассекли. И вот теперь третьего, нового Рима, державного твоего царства святая соборная апостольская церковь во всех концах вселенной в православной христианской вере по всей поднебесной больше солнца светится» [59]. В фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный» царь говорит: «Два Рима пали, а третий – Москва – стоит, а четвертому не быть!» [60]. Но ведь это буквально цитата из послания старца Филофея.
Для Сталина фильм С. Эйзенштейна имел особую значимость. Ведь с его помощью Сталин высказывался о своей реальной внутренней и внешней политике, которую изложить было в соответствии с марксистской терминологией весьма затруднительно. В оригинале эта идея сформулирована так: «… Храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать» [61]. Собственно, в этой формуле русский мессианизм получил определенность и законченность. Как свидетельствует фильм, идеология была создана. Но на самом деле, ее основанием была архетипическая реальность. Это и объясняет, почему Сталин оказался у массы столь популярным. Мессианизм становится основой и русской ментальности и русской коллективной идентичности. Но он же оказывается и психологическим основанием имперского комплекса русских. А главное, российской имперской государственности. Жрецы государства снова ухватились за те идеи, которые все-таки выходят из уст интеллигенции.
Исследователь третьего Рима как архетипа российской государственности И. Кириллов отмечает, что и до появления идеи Филофея идея богоизбранности русского народа в истории уже носилась в воздухе. Филофей лишь нашел форму, в которую и влил те идеи, которые в то время на Руси имели место. В посланиях старца отразилась умственная атмосфера того времени. «Изложенная философско-политическая теория Филофея так верно воспроизводила общий смысл эпохи, – пишет И. Кириллов, – так точно угадывала настроение современников Филофея, что скоро была усвоена даже правительственными сферами и вошла в государственные акты. Величественная теория исторического призвания Руси, несомненно, не могла быть создана каким-либо отдельным лицом, как бы велико ни было его дарование. Только в том случае, если сама жизнь дает необходимые соки, питает корни идеи, последняя выливается из-под пера мыслителя, которого наталкивают на эту идею обстоятельства времени; только при наличности надлежащей почвы идея может развиться и сделаться общим достоянием» [62].
Но была ли эта сила и мощь государства реальной? Конечно, было уяснено, что благодаря сильной Руси в мире будет сохраняться вера и мир. Однако вера в свое исключительное предназначение должна подкрепляться земными делами. А же в ХVI веке земные дела не всегда подтверждали реальность того, во что начали верить. Не случайно Ивану Грозному пришлось ставить вопрос о скрепах, о необходимости единения и укрепления государства в соответствии с заимствуемой традицией. Как же эти скрепы понимали в ХVII веке? Имея в виду преклонение царя перед стариной, В. Малинин пишет: «Иван Грозный, ум наиболее решительный, мечтает задержать естественный ход истории, водворить в жизни мнимую старину и с искренним сокрушением сердца просит отцов Стоглавого собора восстановить обычаи, «которые… в прежние времена после отца нашего великого князя Василия Ивановича всеа Руси и до сего настоящего времени поизшаталися» [63].
Просто удивительно, как эта потребность использовать старину как скрепу распадающегося единства посещает время от времени власть в России. Как тут осуждать лишь власть. Это массовое поветрие. Это массовая иллюзия, рождающаяся от страха перед возможным разрушением идентичности. Да, образ «третьего Рима» как выражение нового самосознания древней Руси, как результата ее крепости и мощи, столь желанных после распада Киевской Руси и татаро-монгольского ига, разумеется, мог консолидировать средневековую массу. Но это все же была лишь желаемая, а не реальная консолидация. Реальность говорила о другом. Ведь приближался ХVII век, а, как известно, это век смуты и заката средневековой крепости и стабильности. Происходящее масса все чаще воспринимала в апологетическом духе. Уже представлялось, что мир находится во власти Антихриста и, следовательно, недалека кончина мира, судный день. «На Руси, – пишет В. Малинин, – ожидание кончины мира определялось под влиянием переводной греческой письменности, а потому неизбежно вело к усиленному спросу на произведения эсхатологического характера в те моменты, когда ожидание кончины мира почему-либо становилось особенно настойчивым» [64]. Оно в ХVI веке и было таким.
Весьма притягательной казалась идея Филофея богоизбранности русского народа, по аналогии с богоизбранностью еврейского народа, что можно вычитать из Библии. Но эта идея воспринималась на фоне страха перед судным днем. Образ богоизбранности омрачался приближающейся кончиной мира, что носилось в воздухе. В русских это выковывало дух античного стоицизма. В этой апокалиптической ситуации нужно было продлить и жизнь собственного государства, и жизнь всего мира. Ради этого можно было даже отречься от интересов личности, принести их в жертву. Подтвердить идею Рима как вечного царства. Вечного за счет России, поскольку Рим первый и Рим второй уже не существуют. Рим третий остается наедине со всем миром. Этот новый Рим оказывается в ответе за все, что в этом мире происходит. Так формируется не только мессианская ментальность русских, но и планетарная идея ответственности. Ответственности русских за весь мир, даже если мир такую идею может и не принять. Но ведь идея мировой революции, исходящая от большевиков во время революции как раз и носила планетарный характер.
Но раз речь заходит уже о судьбе всего мира, то одной веры тут недостаточно. Вера должна опираться на солидную государственную основу. Так рождается идея империи. Способность русских выступать хранителями истинной христианской веры должна опираться на материальную основу, вообще, на силу. Казалось, что православие исчезает вместе со вторым Римом. «По складу провиденциально-теократического мировоззрения Филофея, – пишет В. Малинин, – это означало исчезновение богоизбранного народа на земле, грозило исчезновением среди людей правой веры, общим помрачением света истинного богопознания, т.е. означало наступление последнего времени и явление Антихриста. Если поэтому Провидению Божию благоугодно будет продлить жизнь мира; то это возможно будет только под условием передачи исторической миссии Римского царства новому народу и царству и под условием перенесения преимуществ Нового Рима на третий Рим, каковым и может быть только столица нового богоизбранного народа. Иной вывод был невозможен» [65]. Вот и получается: «тверда уверенность русских людей в чистоте и неповрежденности отечественной веры, в ее верности исконному восточному православию привела наших книжников к воззрению на Россию, как преемницу Византии в роли богоизбранного царства» (66).
Эта идея владела сознанием не одного Филофея. Но наиболее четко ее сформулировал именно Филофей. Отныне утверждено то, что определило ментальность народа, которую и пытались осознать славянофилы. «Русское царство есть единственное православное царство во всем мире; оно, следовательно, и есть истинный хранитель сияющего во вселенной православия; оно же есть поэтому истинно богоизбранное царство, призванное до конца веков сохранить в чистоте веру Христову и вручить ее, как неизменную святыню, Богу в пору наступления вечного царства Божия» [67].
Разве мы не ощущаем, что эта идея возобладала и в революции 1917 года. Только уже не в религиозном, а в секулярном виде. Однако лишь кажется, что только в секулярном виде. На самом деле, революция тоже оказалась сакрализованной, а потому и приобретала религиозный смысл, что проницательно улавливал С. Булгаков. Столь укорененное в сознании представление о России как исключительной в мире стране, сохраняющей в чистоте веру, которой, как на Руси тогда начали считать, лишались другие народы, проявилась и в революции. Разве сознание уверовавшего в это человека способно понять, что веру-то сохраняли, но людей-то при этом губили штабелями. До сих пор находят могилы расстрелянных. Имена жертв при этом неизвестны, поскольку они были расстреляны без суда и следствия. Власть скрывала свои злодеяния, отдавая отчет в том, что это отнюдь не «подвиги».
Вот и получается: вера ради веры, империя ради империи, государство ради государства. И наконец, революция ради революции. Вот и объяснение того, что по мере развертывающейся революции палачи становились жертвами. Революция выходила за границы нравственности и человечности. Она оказывалась самоцелью. И все это ради величия державы. А что же человек в этой державе? Почему именно империя? Да потому, что, как казалось, империя лучше скрепляла то, что распадалось. Империя соотносилась с сильным Римом, сначала первым, а потом и вторым, т.е. Константинополем и Византией вообще. Но ведь в соответствии с закономерностью, сформулированной пророком Даниилом следовало: сколь бы прочной не казалась очередная империя, рано или поздно распадется и она, уступая место другим. История показывает: не вечным оказался Рим первый, на глазах славян, подражающих Византии, распадался и Рим второй. Русь подхватывала эстафету традиции, и называла себя «Римом третьим». В перспективе предсказание пророка Даниила должно было подтвердиться. Риму третьему тоже ведь когда-то суждено пасть. Значит, нужно, подхватив эстафету у Рима второго, продержаться как можно дольше. От этого зависит выживание не только славянского, но и всего остального мира.
Образ третьего Рима имел планетарный смысл. Русские привыкли решать не только свои проблемы. Они ставили вопрос о мировой трансформации. Сначала эта трансформация представала в религиозном духе, затем в секулярном. Так мы доходим до сознания русских революционеров. Идея «мировой революции», которой жили пламенные революционеры, – это идея, имеющая средневековое происхождение. Они ее только излагали в соответствии с терминологией Маркса. На самом же деле их тексты были интертекстами. За Марксом прочитывался Филофей. Ради прочности и стабильности существования каждый раз прибегали к империи. К ней будут прибегать и позднее, в том числе, и самые демократические народы, убежденные в том, что призваны решить судьбы других народов, например, современная Америка.
Но что значит продержаться как можно дольше? Это означает отказаться от свободы, принести ее в жертву. Но это и есть, как мы старались показать, наиболее значимый признак средневековой личности. Даже Г. Федотов, пытаясь понять тип личности, выжившей в сталинскую эпоху, объясняет именно таким средневековым типом личности, выпрыгнувшим в постреволюционный период из Средневековья, а точнее, сохранившимся от того далекого времени [68]. Личность эпохи сталинской диктатуры ведь тоже свою свободу принесла в жертву империи, заложив этот комплекс в ментальность последующих поколений. К сожалению, П. Сорокин в своей глубокой интерпретации революции эти вопросы обходит.
Таким образом, сакрализация как определяющий признак восприятия революции еще не исчерпывает смысла ауры революции. Имперский комплекс не отнесешь к сакральному. В этой ауре революции, как это ни парадоксально, содержится также и языческий смысл. Это то, что В. Соловьев констатировал в русской государственности и что он резко критиковал. Это языческое начало связано с византийским архетипом, т.е. наделением революционной России образом могущественного Рима, но уже не второго, как Византия, а третьего. Рим ассоциируется не только с мощью, но и с претензией определять судьбу остальных народов, что находит выражение в идее мировой революции. Но чтобы определять судьбу других народов, нужно быть сильным, нужно быть империей. Эта иллюзия, эта виртуальная матрица возникла в Средние века. Позднее она была осознана, точнее, сформулирована. И что же? Разве это осознание помогло овладеть матрицей, выйти из нее и посмотреть на этот архетип со стороны, т.е. критическим, так сказать, взором. Осознана же она была еще славянофилами и была ими четко сформулирована. Они не случайно идеализируют прошлое. Они не были футуристами. Но то, что они сформулировали, стало составной частью идеологии и определило будущее. Вошло не только в утопию, но и в идеологию.
С этого времени русские стали существовать в контексте проникающей в историю виртуальной реальности. Конечно, подобное осознание себя народом происходило в соответствии не с тем, что существует в научных исследованиях историков, а с фольклорными, мифологическими и, в конце концов, ментальными, т.е. вневременными представлениями. Если продолжить мысль В. Топорова, то таких ситуаций в российской истории было предостаточно. Такая ситуация имела место и после революции, когда стало ясно, что она не привела в «золотой век» и после распада сталинской империи, и уже в наши дни, когда становится ясно, что либерализация не дала, как ожидалось, положительных результатов. Русские снова оказались в проблемной ситуации. Пока элита готовится дать «творческий ответ», его дает масса, а у массы этот ответ связан с архаическим образом «третьего Рима». Удивляться тут не приходится. Нужно думать, что с этим делать. В России вновь, уже в который раз оживает средневековый тип личности, способный отречься от свободы лишь бы сохранить державу.
Иногда начинает казаться, что, может быть, в этом есть какое-то рациональное зерно. Если идеи, способные приблизить к выходу из экстремальной ситуации, запаздывают, то масса дает свой ответ. Она острее ощущает проблему выживания. Так, может быть, она все же права? Ведь реакция на экстремальную ситуацию массы не означает выход за осевое время, в варварскую эпоху. Эта реакция означает реабилитацию средневековой традиции. А средневековая традиция, чтобы о ней не думали просветители, все же культурная традиция. Традиция, возникшая в осевое время. Что остается делать власти, если она пока не готова дать «творческий ответ» и если масса подсказывает ей свой ответ и давит на нее? Видимо, в этой ситуации она может оказаться у массы на поводу. А что ей остается делать. И то, что кажется исходящим от власти, на самом деле оказывается институционализацией комплексов массы.
Таким образом, наше желание снова вернуться к революции и попытаться осмыслить ее с психологической точки зрения продиктовано нашей современность. Каждый раз, когда возникает распад старой государственной системы, создается экстремальная ситуация. В этом случае становится актуальной проблема выживания целого народа. Виртуализация и настоящего, и прошлого продолжается. Виртуальное начало настолько проникло в историческое сознание, что в ХХI веке кажется, что нам уже не дано вернуться в настоящее, в реальность. Мы продолжаем существовать в объятиях виртуального. Революция впечатала в сознание русских эту виртуальную матрицу, и она стала уже слагаемым и коллективной ментальности, и коллективной идентичности. Сегодня это оказывается по-прежнему актуальной проблемой. Наверное, еще и потому, что, находясь в состоянии эйфории от технологий, современный человек не всегда осознает, что он оказывается «постчеловеком». Он поддается гипнозу технических костылей, постепенно трансформирующих его в киборга, который займет место человека. Если до сих пор виртуализация существовала в естественных, т.е. в психологических формах, что мы показали на примере революции, то с последующей виртуализацией постчеловек вообще окажется в искусственном, технологизированном мире. Виртуализация уже будет всепоглощающей. Как свидетельствует революция, история психологически уже такой переход подготовила.
ПРИМЕЧАНИЯ
[42] Бунин И. Указ. соч. С. 43.
[43] Там же. С. 94.
[44] Там же. С. 94.
[45] Там же. С. 110.
[46] Там же. С. 86.
[47] Топоров В. Московские люди ХVII века (К злобе дня) // Philologia slavica. К 70-летию академика Н. И. Толстого. М.: Наука, 1993. С. 191.
[48] Топоров В. Указ. соч. С. 201.
[49] Сорокин П. Указ. соч. С. 127.
[50] Там же. С. 167.
[51] Там же. С. 167.
[52] Там же. С. 167.
[53] Там же. С. 142.;
[54] Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М.: Айрис Пресс, 2003. С. 379.
[55] Там же. С. 381.
[56] Там же. С. 381.
[57] Булдаков В. Указ. соч. С. 275.
[58] Там же. С. 273.
[59] Памятники литературы Древней Руси. Конец ХV – первая половина ХVI века. Т. 6. М.: Художественная литература, 1984. C. 437.
[60] Эйзенштейн С. Избранные произведения: в 6 т. Т. 6. М.: Искусство, 1971. С. 226.
[61] Памятники литературы Древней Руси. Т. 6. С. 441.
[62] Кириллов И. Третий Рим. Очерк исторического развития идеи русского мессианизма. М., 1914. С. 27.
[63] Малинин В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901. С. 134.
[64] Там же. С. 425.
[65] Там же. С. 531.
[66] Там же. С. 532.
[67] Там же. С. 533.
[68] Федотов Г. Письма о русской культуре // Федотов Г. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. Т. 2. СПб.: София, 1992. С. 164.
© Хренов Н.А., 2019
Статья поступила в редакцию 17 января 2018 г.
Хренов Николай Андреевич,
доктор философских наук, профессор,
Всероссийского государственного университета
кинематографии им. С.А. Герасимова.
e-mail: nihrenov@mail.ru

ISSN 2311-3723
Учредитель:
ООО Издательство «Согласие»
Издатель:
Научная ассоциация
исследователей культуры
№ государственной
регистрации ЭЛ № ФС 77 – 56414 от 11.12.2013
Журнал индексируется:
Выходит 4 раза в год только в электронном виде
Номер готовили:
Главный редактор
А.Я. Флиер
Шеф-редактор
Т.В. Глазкова
Руководитель IT-центра
А.В. Лукьянов
Наш баннер:

Наш e-mail:
cultschool@gmail.com
НАШИ ПАРТНЁРЫ:
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Культуру культуры» обязательна.
© Научная ассоциация исследователей культуры, 2014-2024







