НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Научное рецензируемое периодическое электронное издание
Выходит с 2014 г.

Гипотезы:
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Э.А. Орлова. Антропологические основания научного познания
Дискуссии:
В ПОИСКЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (рубрика А.Я. Флиера)
А.В. Костина, А.Я. Флиер. Тернарная функциональная модель культуры (продолжение)
Н.А. Хренов. Русская культура рубежа XIX–XX вв.: гностический «ренессанс» в контексте символизма (продолжение)
В.М. Розин. Некоторые особенности современного искусства
В.И. Ионесов. Память вещи в образах и сюжетах культурной интроспекции
Аналитика:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
А.Я. Флиер. Социально-организационные функции культуры
М.И. Козьякова. Античный космос и его эволюция: ритуал, зрелище, развлечение
Н.А. Хренов. Спустя столетие: трагический опыт советской культуры (продолжение)
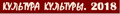

Н.А. Хренов
Смех и культура: от ментальности к жанру
(начало)
Аннотация. Статья посвящена исторической эволюции смеховых образов в культуре и прежде всего в художественной литературе. Внимание автора сосредоточено на интерпретации этих смеховых образов в современной культуре. Рассматриваются также национальные особенности смеховой культуры, в частности традиции юмора в русской литературе.
Ключевые слова. Культура, смех, смеховая культура, художественная литература, традиции юмора.
1. Реабилитация элементов средневековой культуры в истории ХХ века:
от эксцентризма к открытию карнавальной стихии
Данная работа представляет часть фундаментального исследования «История образов после истории искусства», в которой рассматривается тяготение русского искусства ХХ века к архаике, мифологии и примитиву, что характерно уже для символизма и последующих художественных направлений, объединенных общим названием «авангард». Но данная часть этой большой работы посвящена исключительно смеху. Комическая стихия ХХ века как частная сфера художественной культуры также свидетельствует о реабилитации древних форм смеха, что подтверждает основную идею автора, которую он пытается аргументировать в своем фундаментальном исследовании.
Однако в данной работе идея реабилитации древних форм смеха, которую автор пытается проиллюстрировать конкретными фактами из области искусства, не исчерпывает всей проблематики данного замысла. На примере комедии автор пытается показать, что ХХ век является переходной эпохой в истории культуры. В реальности этого столетия развертывается смена культурных циклов. На рубеже XIX – ХХ веков угасает цикл культуры, длящийся несколько столетий и нарождается альтернативная культура, в которой происходит частичная реабилитация элементов средневековой и еще более древних культур. Такая реабилитация – свидетельство общей закономерности, проявляющейся в том, что в момент рождения новой культуры имеет место возвращение к исходной точке угасающего цикла. Наконец, автор не оставляет без внимания и то обстоятельство, что та форма комического, что возрождается в русском искусстве, является продолжением и выражением специфической ментальности, характерной для цивилизационной идентичности русских людей.
Эксперименты в русском искусстве начала ХХ века с присущей ему элитарной направленностью странным образом первоначально происходили именно в театре, который по самой своей природе является зрелищем для массы, что, конечно, противоречило элитарным экспериментам. Поскольку же и поиск новых, обращенных в будущее форм и поиск массовых образцов развертывался в театре, то на рубеже ХIХ – ХХ веков этот вид искусства заметно выдвигался в центр системы видов искусства. Но это выдвижение оборачивалось раздвоением в ориентациях театра. Реальность этого раздвоения, например, была сформулирована в докладе П. Боборыкина на съезде театральных деятелей в 1897 году. Она получила выражение в вопросе докладчика: «Отвечает ли театр в его теперешнем виде потребностям массы, другими словами – на кого работать, на эту ли массу или только на избранное меньшинство» [1].
Таким образом сформулированная проблема, послужившая началом дискуссий, явилась значимым признаком художественной жизни рубежа ХIХ – ХХ веков. Разрешение проблемы некоторые представители театра связывали с обращением к удаленным эпохам театра: античности, Средневековью, к восточным культурам, наконец, к архаическим культурам. Весьма любопытным образцом обращения к античному театру явился спектакль, поставленный немецким режиссером М. Рейнхардтом по трагедии Софокла «Царь Эдип» и «Орестея» по трагедии Эсхила. Причем, например, трагедия Софокла была поставлена в здании цирка, что в театральной среде спровоцировало шумные дискуссии. Но, впрочем, выяснялось, что драматические спектакли демократические слои публики предпочитают смотреть в здании не собственно театра, а цирка.
На эту тему была интересная информация в докладе А. Саксаганского и И. Карпенко-Карого, прочитанном на I Всероссийском съезде сценических деятелей в 1897 году. Поскольку театры рассчитаны на состоятельную публику, которая успела стать постоянной, то у более демократической публики сам театр воспринимался с некоторым предубеждением. («Настоящего театра, какой желательно было бы иметь, нигде в России нет. Все театры рассчитаны на богатую публику. Оттого партер – огромный, лож много, и все они зияют пустотой, тогда как галерея, амфитеатр, балкон, если не всегда, то чаще всего переполнены публикой, несмотря на то, что цены и на эти так называемые дешевые места вовсе не дешевы» [2]).
Театральные деятели конца ХIХ века сравнивали отношение неискушенных зрителей к театру и цирку. «Мы пробовали устраивать в огромных цирках сцену и давать спектакли по таким ценам, какие означены выше, и театр ломился от простого и среднего зрителя, медяки выносили из кассы мешками. Кузнецы, фабричные и всякого сорта рабочие охотнее идут в театр простой, без всякой роскоши; в таком театре народ чувствует себя свободнее; он не смущается своим рабочим костюмом, а забегает ему с работы домой, чтобы переодеться и явиться среди фешенебельной публики, – чистая мука, и он предпочитает идти с товарищем в трактир, где пропивает гораздо больше, чем сколько заплатил бы за место в театре… Три раза мы так устраивали театр, и каждый раз результаты были блестящими. Однажды в Ростове после 12 таких дешевых нарядных представлений в цирке, администрация под влиянием нашего конкурента, антрепренера летнего театра, который дешевые наши спектакли считал позором для искусства, воспретила нам давать представления в цирке – на том основании, что в цирке дозволено давать только конные ристалища, но не драматические представления. Тогда мы сняли у покойного антрепренера Черкасова так называемый Асмоловский театр. Дело было летом, театр все равно пустовал, и сдали нам дешево. И вот в Асмоловском театре объявили такие же дешевые спектакли, какие давали в цирке, – но увы! Та публика не пошла. Бархат и вид самого здания очевидно ее смущал» [3].
Что касается М. Рейнхардта, то им руководила не только идея возрождения античного театра, но и необходимость решить задачу расширения аудитории спектакля. В 1911 году спектакль М. Рейнхардта «Царь Эдип» был показан в Петербургском цирке Чинизелли. Здесь он тоже имел эффект, особенно в среде символистов. Отвечая на вопрос журналистов по поводу постановки этого спектакля, М. Рейнхардт сказал: «Когда я для моего Эдипа выбрал арену цирка, то само собой здесь не могло быть и речи о точной копии античного театра. Я задался идеей вдохнуть в трагедию Софокла дух нашего времени и применить ее к условиям и требованиям нашего времени. Мне не могло прийти в голову воскресить античную сцену, для воссоздания которой необходимо открытое небо и маски. Существенное взаимоотношение между античной и теперешней сценой, я полагаю, в возрождении тех размеров, с которыми так тесно сливались произведения античного времени. При моих первых попытках мне представилось определенно и ясно следующее: те произведения, в которых декоративные подробности отступают на задний план и дают артисту желаемую возможность стать среди публики, освободив себя от давления декораций» [4].
Таким образом, социологический аспект спектакля у М. Рейнхардта не исключал эстетического. Делясь своими впечатлениями от спектакля М. Рейнхардта и оценивая его отрицательно, театральный критик пишет: «Никакой античной соборности и будущего коллективного творчества в нынешнем театре быть не может. В древнем амфитеатре совсем другие были условия. Там театральные представления происходил днем на открытом воздухе; фиолетовые, лиловые эффекты не разрушали иллюзии общения народа с живым представлением о театре. Арена цирка, как ее ни замаскировывай электричеством, все же не площадь перед дворцом, и статисты, появляющиеся из проходов цирка, не греческий народ» [5]. Как мы убеждаемся, театральный критик оказывается солидарным в оценке возрождения античного театра А. Белым.
Что, однако, выяснялось при восприятии созданного М. Рейнхардтом циркового зрелища, которое должно было донести до зрителей мысль Софокла? С М. Рейнхардтом произошло то, что в свое время произошло с трагедией, но уже на римской сцене. Она вырождалась в то, что когда-то было удачно названо, а именно, в тот самый «монтаж аттракционов» или в цирковую программу. Вот как предстает спектакль М. Рейнхардта в описании театрального критика З. Ашкинази. «Прославленный режиссерский гений Рейнхардта выразился исключительно в создании эффектов зрелища, какое едва ли было бы допущено у греков в их самых простонародных представлениях. Центр тяжести рейнгардовских цирковых трагедий лежал не в гармоничности внутреннего развития трагедии, не в мистерийном ее элементе и его сценическом воплощении, а в нестерпимых для чувствительного глаза световых эффектах, в пышных въездах колесниц, в шествиях воинов и хора, в пестрых одеяниях, в освещенных пронзительным светом электрического прожектора, воздетых к небу руках, – словом, в грубо-эффектных «живых картинах». Драматический рисунок был сведен на несколько резко очерченных моментов, но эта простота была далека от благородной простоты построения трагедии и скорее приближалась к болезненно-изломанной линии упрощенного декадентского рисунка. Из двух-трех ярких контрастных красок создавался рельефный сценический плакат, который при резком цирковом освещении, да и то только из невзыскательный вкус театральной черни мог сойти за строгий рисунок античной трагедии» [6].
Таким образом, мы снова констатируем распад единого действия и сюжета на ряд фрагментов, тяготеющих к самостоятельности. Может быть, это обстоятельство в еще большей степени относит спектакль М. Рейнхардта к цирку, нежели его представление в здании цирка. Возвращаясь к потребностям и ритмам индустриального общества, отметим, что они имеют как плюсы, так и минусы. С минусами связан распад тех ментальных созерцательных форм, в соответствии с которыми человек воспринимал мир. Это процессы распада прежних форм организации чувственного опыта и его истолкования, что возникли еще в средние века. Однако парадоксально, что параллельно распаду структур сознания, сформированных предшествующими культурами, развертывался и процесс их реабилитации, но, правда, в форме экспериментов и научных исследований.
В связи с этим важно вспомнить еще один аспект регресса в архаические формы, связанные с карнавальной или со смеховой стихией. Обращаясь к смеховой стихии, мы ставим перед собой задачу обнаружения того, что мы делаем применительно к изобразительному искусству, театру, кино и вообще ко всем искусствам, т.е. проводим ту линию, которая является сверхзадачей всего предпринимаемого нами исследования. Эта линия связана с нарушением преемственности в истории искусства в ее традиционном и, кажется, общепринятом смысле и с обнаружением преемственности в соответствии с циклической логикой истории искусства. Иначе говоря, в нашем понимании преемственность – это возвращение искусства к истокам большого исторического цикла, в который укладывается история искусства на всем ее протяжении и реабилитация тех форм, что предшествовали собственно истории искусства. Эту основную идею нашего исследования мы имеем намерение проиллюстрировать на примере жанров и, в частности, комического жанра.
Так, предвосхищая анализ конкретных примеров из истории ХХ века, в частности, из смеховой стихии, характерной для русской культуры, мы постараемся показать, как театр, весьма зависимый на поздних этапах истории от литературы, пытается с ней размежеваться и вернуться к тем формам своего функционирования, что предшествовали собственно профессиональному театру и реабилитировать то его состояние, когда он еще не успел выделиться из ритуала, а следовательно, и из мифа. Естественно, что история комедии как жанра оказывается в зависимости от этой парадоксальной логики в функционировании театра. Обычно искусствоведческий подход такую логику комического жанра исключает. Но чтобы циклическую логику в эволюции жанра продемонстрировать, нам придется рассматривать его в соответствии с ритмами истории не только искусства, но и культуры. Ведь очевидно, что искусствоведа мало интересует театр в его ритуальных формах. Значимость этого обстоятельства обнаруживается не при искусствоведческом, а при культурологическом подходе.
Вообще, проблематика, которая в нашем исследовательском проекте оказывается в центре нашего внимания, т. е. выход современной эстетической практики, под которой следует понимать эстетическую практику ХХ века, может быть исследована не только на искусствоведческом, но и на культурологическом уровне. Другие ракурсы исследования, в том числе, и жанров могут обойтись и без культурологического подхода, что, собственно, и происходит. Но мы касаемся вопроса о выходе нашего предмета за пределы истории искусства в ранние эпохи синкретического состояния эстетической сферы, когда, как уже отмечалось, виды искусства в их самостоятельных формах еще не существовали. Именно поэтому уже собственно сам предмет исследования диктует значимость культурологической постановки вопроса.
Кстати, в таком рассмотрении предмета мы не предстаем первопроходцами. Такой подход имеет предысторию. Так, например, в своей истории театра В. Всеволодский-Гернгросс впервые попытался раздвинуть время такой истории и включил в рассмотрение ритуально-обрядовые формы театра. Конечно, такой подход являлся исключением. Историки театра обычно поступали иначе. Как доказывал В. Всеволодский-Гернгросс, историки театра оказывались под воздействием исключительно эстетики ХIХ века, а она в центр системы искусства выдвигала литературу. В системе видов искусства происходило смещение. Если, как утверждал еще Г. Лессинг, ХVIII век был веком, когда лидером в этой системе был театр, то в ХIХ веке театр уступил ведущее место литературе [7]. Это привело к тому, что интересы историков театра сосредотачивались исключительно вокруг жизни театра драматического, а «последний понимался лишь как истолкователь, интерпретатор, иллюстратор литературного произведения» [8].
При таком положении на первый план в театре выдвигалась литературная, т.е. вербальная сторона. Что касается другой стороны театра – зрелищной, то она угасала, уходила в прошлое. Собственно, такому положению способствовала не только эстетика ХIХ века, испытывающая влияние литературы, но и вообще эстетика, которая театр как вид искусства недооценивала. Фиксируя это противоречие, историк театра пишет: «Несомненно, либо представители научной и художественной мысли не вполне уверены в том, относится ли театр к миру искусств, либо понятие искусства, как оно раскрывалось старой эстетикой, нуждается в пересмотре. Мы примыкаем к этой последней точке зрения и, если сейчас и относим театр к этой области, то только при условии иного истолкования искусств, и, вообще, отмежевания от старой эстетики» [9]. Размежевание с эстетикой и ее установками позволило включить историку театра обряды и игрища и таким образом углубиться в ситуацию функционирования образов, предшествующую собственно истории искусства.
Любопытно отметить, что такая новаторская постановка вопроса, связанная с выявлением смысла театра не только как вида искусства, но и как феномена культуры, оказалась реакцией на новые тенденции театра, для которых была характерна реабилитация зрелищной стороны театра. Нечто подобное развертывалось в собственно практике театра, когда режиссеры пытались прорваться, как выразился М. Бахтин, к «большому опыту» человечества и вернуть ранние эстетические формы, уже к началу ХХ века почти забытые. Эксперименты В. Мейерхольда в этом смысле могут служить прекрасной иллюстрацией такого нашего суждения.
Таким образом, ставя перед собой задачу выявить тенденцию реабилитации предшествовавших собственно истории искусства и, конечно, истории эстетики древних форм смеха, нам нужно хотя бы схематично представить историю смеха и обозначить в этой истории основные вехи. Речь идет, конечно, об истории применительно ко всем культурам и, в особенности, к тем культурам, что функционировали в соответствии с логикой европоцентризма. Понятно, что, если не иметь хоть каких-то, пусть пока и элементарных представлений о том, что такое смех, все попытки проследить исторические закономерности в функционировании смеха будут обречены на провал. Нельзя пускаться в исторические разыскания, не пытаясь на этот вопрос ответить. Но, правда, по этому вопросу существует больше пессимистов, нежели оптимистов. Иначе говоря, смех относят к наименее поддающимся научным и теоретическим исследованиям предметам.
В связи с этим укажем на возникшую еще в 1902 году книгу французского психолога из школы Рибо (а Рибо, как известно, изучал в связи с работой над своей системой Станиславский) – Дюга, написавшего книгу «Психология смеха». В ней он как раз и излагает свое мнение по поводу невозможности определить смех. Приведем это его суждение. Данная цитата из Дюга извлечена нами из трактата З. Фрейда, которого также следует отнести к исследователям, внесших свой вклад в осмысление психологических закономерностей творчества и восприятия смеха. «Нет ничего более обычного и более изученного, нежели смех; – пишет Дюга, – ничто так искусно не возбуждало любопытства простых смертных и мыслителей, ничто не служило столь часто предметом наблюдений и теоретизирования, оставаясь между тем столь же непостижимым; заманчиво утверждать, уподобившись скептикам, что надлежит лишь довольствоваться смехом, не доискиваясь его причин, ибо размышление, быть может, губительно для смеха и, следовательно, по логике вещей неспособно постичь его происхождение» [10].
Этот заявленный в самом начале ХХ века скептицизм по отношению к изучению смеховой стихии имел основание оставаться и в последующее время. Даже М. Бахтин, приступая к «археологии» смеха, утверждает, что «глубокое своеобразие народной смеховой культуры прошлого до сих пор еще остается вовсе не раскрытым» [11]. Проблема заключается, правда, и в том, что если не разгадан смех на предшествующих этапах своей истории, то он остается неразгаданным и в ХХ веке. Разгадка смеха в его современных формах во многом зависит от того, как мы представляем смех в архаических, традиционных и уже угаснувших культурах. Ведь то, что можно назвать смеховой стихией в ее современных проявлениях, во многом связано с реабилитацией прошлых форм ее функционирования. Но выявить эту возвратную логику в истории культуры поможет лишь тот подход, который историю рассматривает как циклическую.
Следующим вопросом, который в данном исследовании важно решать, – это специфика спеха в русской культуре. Хотя русская культура во многом развивалась в соответствии с логикой европоцентризма, но эта логика скорее характерна для трех последних столетий. До ХVIII века она развивалась под воздействием византийской, а еще раньше – восточной традиции. В нашем исследовании это важно учитывать, ведь наш предмет мы имеем намерение рассматривать в больших длительностях. Очевидно, что активность исторической памяти, в которой можно выделять сформировавшиеся в разные исторические эпохи пласты, касается, в том числе, и жанров. Наконец, в поле нашего зрения должна оказаться как теория, так и практика комического применительно к той эпохе, когда логика истории искусства в ее традиционном понимании оказалась нарушенной и в культуру прорвались архаические практики. Такой эпохой и явился ХХ век.
Что касается приблизительной схемы эволюции комического, то она была намечена еще А. Герценом. Его краткое суждение представляет целый замысел, который по-настоящему до сих пор еще не был реализован. Его реализации мешали многие обстоятельства. Прежде всего, мешала изоляция искусствоведческого подхода, практически не испытывающего потребности в учете культурных и социальных факторов [12]. Такие же претензии можно предъявить к смежной науке, возникшей, как и история искусства, еще в ХVIII веке, т.е. к эстетике. Любопытно отметить, что сделавшая предметом своего исследования прекрасное и красоту, эта дисциплина сразу же провела жесткие границы между эстетическим и неэстетическим, художественным и нехудожественным. В лице своих авторитетных представителей – философов модерна она оказалась под воздействием установки, согласно которой границы художественного были очерчены лишь теми представлениями, которые сложились в эпоху классицизма, а точнее, модерна.
Естественно, что все архаические традиции, с которыми искусство этого времени сохраняло связь, были передвинуты за пределы художественного и эстетического. Единственная сфера, в которой такие традиции еще как-то сохранялись, это сфера низших жанров и форм, из которых художники, представляющие модернизм, будут черпать формы и образы. Естественно, что эстетика оказалась нечувствительной ко всему, что искусство унаследовало от ритуала и что оно продолжало еще сохранять. Но это как раз то, что и предшествует собственно истории искусства и что является предметом нашего исследования. Констатируя эту жесткость проведения границы между художественным и нехудожественным в эстетике, мы как раз и объясняем, почему эстетика в ее первоначальном виде, в том, в каком она предстала сознанию философов модерна, не могла сосредотачивать внимание на предмете нашего исследования. Но это самое обстоятельство в ХХ веке, когда стало очевидно, что искусство ощутило необходимость прорыва в большой опыт человечества, что подразумевает и реабилитацию архаики привело эту дисциплину к кризису.
Наука о прекрасном оказалась в растерянности перед вторжением в искусство всех тех форм, которые на протяжении истории культуры возникали постепенно и последовательно, а в ХХ веке они начали функционировать одновременно. Границы между художественным и нехудожественным оказались разрушенными. То, что обычно называют современным искусством, демонстрировало свою связь с архаикой, возвращало к ритуалу, чему, кстати, способствовали, в том числе, идеологизация и политизация искусства. Завершая свое исследование, М. Бахтин предъявляет свои претензии науке о литературе, но, в том числе, и эстетике. Эти его претензии связаны с особым прочтением культуры Ренессанса. Но они применимы и к ХХ веку. «Литературоведение и эстетика, – пишет он, – исходят обычно из суженных и обедненных проявлений смеха в литературе последних трех веков, и в эти свои узкие концепции смеха и комического они пытаются втиснуть и смех Ренессанса; между тем как эти концепции далеко не достаточны даже для понимания Мольера» [13].
М. Бахтин постоянно подчеркивает, что гротесковая стихия, что торжествует на площади, в карнавале и в балагане, а именно, ей и посвящено его знаменитое исследование, противостоит прекрасному как предмету эстетики. «В рамках «эстетики прекрасного», сложившейся в новое время, – пишет он, – это тело (тело, как оно предстает в гротескном реализме – Н. Х.) не укладывается» [14]. Наконец, что очень важно отметить, осуществлению намеченного А. Герценом проекта мешала также неразработанность методологии и переживающей бурный рост в наше время другой дисциплины – культурологии. Наша постановка вопроса о начальных и завершающих этапах истории искусства как раз и подводит к необходимости именно культурологического подхода.
Когда А. Герцен попытался окинуть взглядом историка смех, то он выделил в его истории две основных эпохи, а именно, эпохи, которые были весьма благоприятными для смеха и эпохи, в которых смех запрещался. «В древнем мире хохотали на Олимпе, – пишет он, – и хохотали на земле, слушая Аристофана и его комедии, хохотали до самого Лукиана с IV столетия человечество перестало смеяться – оно все плакало, и тяжелые цепи пали на ум середь стенаний и угрызений совести. Как только лихорадка изуверства начала проходить, люди стали опять смеяться» [15]. Собственно, именно эта бросающаяся в глаза с первого и достаточно поверхностного взгляда закономерность и позволила А. Герцену утверждать, что смех должен быть рассмотрен исторически. Иначе говоря, необходимо предпринять историю смеха.
Однако в формулировании такого возможного проекта, который может быть реализован лишь в будущем, у А. Герцена есть и весьма тонкое замечание не столько о психологии, сколько о социальной психологии смеха, а, по сути, о решающем механизме смеха, а именно, о параллельном существовании двух миров – реального и идеального, утопического. Пожалуй, это замечание А. Герцена не соответствует концепции смеха А. Бергсона, который нам интересен уже потому, что, кажется, эта концепция дает ключ к пониманию того, что в нашем искусстве 20-х годов будет известно как «эксцентризм». Видимо, оно в большей мере соответствует концепции М. Бахтина, которая для нас представляет большой интерес. М. Бахтин, исследование которого о смехе вышло в 1940 году, на примере смеха уже демонстрирует ту закономерность, которая нас будет интересовать по отношению ко всему ХХ веку, а именно, реабилитацию архаических форм, в данном случае, смеха, в истории культуры Нового времени.
А. Герцен заметил существенное обстоятельство, которое характеризует функционирование смеха. Это обстоятельство к числу художественных и эстетических не относится. Это социально-психологическое обстоятельство. По мнению А. Герцена, люди смеются так в одних обществах, в которых существует равенство и совершенно иначе в других обществах, в которых оно отсутствует. «В церкви, во дворце, во фронте, перед начальников департамента, перед частным приставом, перед немцем – управляющим никто не смеется. Крепостные слуги лишены права улыбки в присутствии помещиков. Одни равные смеются между собой. Если низшим позволить смеяться при высших или если они не могут удержаться от смеха, тогда прощай чинопочитание. Заставить улыбнуться перед богом Аписом – значит расстричь его из священного сана в простые быки» [16]. Пожалуй, это главное и важное, что следует сказать о смехе.
М. Бахтин не случайно ставит акцент именно на этой особенности смеха, т. е. на упразднении социального отчуждения и на разрушение той иерархии, что закреплена властью и, соответственно, обществом. Но это возможно лишь в ситуации равенства, а равенство достижимо лишь на короткое время. Это праздничное, карнавальное или мифологическое время. «Здесь, – пишет М. Бахтин, – на карнавальной площади – господствовала особая форма вольного фамильярного контакта между людьми, разделенными в обычной, то есть внекарнавальной, жизни непреодолимыми барьерами сословного, имущественного, служебного, семейного и возрастного положения. На фоне исключительной иерархичности феодально-средневекового строя и крайней сословной и корпоративной разобщенности людей в условиях обычной жизни этот вольный фамильярный контакт между всеми людьми ощущался очень остро и составлял существенную часть общего карнавального мироощущения. Человек как бы перерождался для новых, чисто человеческих отношений. Отчуждение временно исчезало. Человек возвращался к себе самому и ощущал себя человеком среди людей. И эта подлинная человечность отношений не была только предметом воображения или абстрактной мысли, а реально осуществлялась и переживалась в живом материально- чувственном контакте. Идеально-утопическое и реальное временно сливались в этом единственном в своем роде карнавальном мироощущении» [17].
Таким образом, А. Герцен выступил сначала культурологом, выделил античность, насыщенную оптимизмом и смехом и Средневековье, когда смех исключался или сводился к минимуму. Конечно, это лишь схема, и позднейшими исследователями смеха она не то, чтобы отвергается, но очень сильно переосмысляется. Уже Ф. Ницше показал, что оптимизм и смех не исчерпывают культуры античности и что это лишь поверхностное представление о культуре, в которой впервые в истории искусства возник жанр трагедии, что свидетельствует о том, что о ментальности греков нельзя судить лишь по классической эпохе, да и саму эту классическую эпоху следует представлять не столь однозначно.
Что касается Средневековья, то в этой культуре все тоже оказалось не столь просто. С одной стороны, очевидно, что смех соотносится с дьяволом. Конечно, смех соблазнителен, и люди с радостью его воспринимают, поддаваясь его гипнозу. Не случайно, когда Кант, цитируя Вольтера, сказавшего, что небеса дали человечеству в противовес многим тягостям в жизни две вещи – надежду и сон, добавляет: они дали еще и смех [18]. Поэтому веселящиеся люди и не осознают, и не подозревают страшную суть смеха и, следовательно, смеясь и радуясь, они в реальности грешат. Да, со смехом связано греховное начало. Может быть, еще и потому, что люди Средневековья не считают себя продолжателями античности. Средние века – это неприятие и критика античной ментальности.
Учитывая все эти аргументы, получается, что, являясь греховным, смех в средние века оказывается под запретом. Тем не менее, это не вся правда о средних веках. Смеялись и в средние века. Подвергалось смеху даже все то, что было связано с Ветхим и Новым заветом. Да, взять хотя бы столь активный, например, в VI веке феномен юродства. Трудно представить средневековую культуру без юродивого. Но, собственно, некоторые современные практики в искусстве, например, перформанс возвращают к этой традиции [19]. Имея в виду юродивого, исследователь сопоставляет его с мимом и не случайно, ведь юродивый надевает личину мима, а, следовательно, включает в провоцируемые им скандалы и провокации момент карнавальности, т.е. смеха [20].
Но затрагивая вопрос о зависимости смеха от степени равенства в обществе, А. Герцен предстает уже социологом. С этой точки зрения смех тоже трудно рассматривать, ограничивая себя исключительно художественной, т.е. искусствоведческой проблематикой. То, что А. Герцен фиксировал на протяжении всей истории, прежде всего, европейской, мы, представители России имели возможность наблюдать на протяжении ХХ века. Так, запрет на смех связан с российской империей. Барьеры для смеха были сняты в связи с надломом и распадом старой империи, т. е. с рубежа ХIХ – ХХ веков, иначе говоря, в переходную для русской культуры эпоху.
По поводу взрыва смеховой стихии в переходные эпохи, когда ослабевает и разрушается господствующая идеология, точно сказал М. Бахтин. Тогда-то и становится очевидным, что долгое время внедряемая властью и церковью картина мира оказывается лишь относительной и ограниченной. «Смеховое начало и карнавальное мироощущение, – пишет М. Бахтин, – лежащее в основе гротеска, разрушают ограниченную серьезность и всякие претензии на вневременную значимость и безусловность представлений о необходимости и освобождают человеческое сознание, мысль и воображение для новых возможностей. Вот почему большим переворотам даже в области науки всегда предшествует, подготовляя их, известная карнавализация сознания» [21].
Вся эта эпоха в истории России – первые три десятилетия ознаменованы взрывом смеховой стихии. Конечно, являясь сейсмографом времени, искусство выражает этот ментальный комплекс. В частности, в уже упоминаемом феномене эксцентризма, что пытались осмыслить знаменитые представители русской «формальной» школы, вызвав к жизни так называемый феномен «остранения». Однако опыт ХХ века свидетельствует: то, что А. Герцен отметил в европейской истории на всем ее протяжении, то в русской культуре было проиграно в одно столетие, т.е. в ХХ веке. Так, начиная с рубежа 20 – 30-х годов, в связи с реабилитацией византийской имперской традиции, на смех в советской империи начинаются гонения. В солженицынском «Архипелаге Гулаге» есть упоминание о фактах, когда рассказчиков анекдотов отправляли в лагеря.
Однако с середины столетия, в связи с надломом и последующим распадом империи сталинского образца в России снова возникла благоприятная для смеха ситуация, мимо чего не могло пройти и искусство. Так, написанный ранее и не издававшийся знаменитый роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», наконец-то, был издан для понимания оттепельной ментальности, как и вообще последующей ментальности он имел определяющее значение. Он, конечно, выразил тот взрыв смеха, который, как замечено тем же М. Бахтиным, всегда наступает в результате разрушения господствующей картины мира. Но было бы ошибочным утверждать, что смысл этого романа исчерпывается смеховым началом.
Наконец, мы подходим еще к одному значимому вопросу, связанному со смеховой стихией, а именно, со спецификой русского смеха или с особым пониманием смеха и особым отношением к нему в русской культуре. Дело ведь не только в том, что на смех накладывают запрет или в том, что этот запрет упраздняется, но и в самом существе смеха, зависимого от ментальности народа. Какие можно отметить специфические именно для русской культуры признаки смеха? Возможна ли такая постановка вопроса в принципе? Почему же она невозможна, если подобные вопросы задавались и раньше, правда, применительно к другим культурам. Вот, например, Г. Лессинг, цитируя Лопе де Вега, утверждает, что в испанском театре ХVIII века не имели успеха трагедии, написанные в духе классицизма. Театр должен был соответствовать вкусам публики, т.е. испанской публики. А вкус этой публики проявлялся в одобрении таких пьес, когда серьезное соединялось с забавным.
Когда цитируемый Лопе де Вега утверждает, что комическое, будучи соединено с трагическим, это кажется чудовищным, но что же делать – это публикой востребовано. «Но это смешение элементов нравится; не хотят смотреть никаких других пьес, кроме тех, которые наполовину серьезны, наполовину забавны; сама природа учит нас этому разнообразию, от которого зависит известная доля ее красот» [22]. Г. Лессинг не случайно приводит процитированное суждение Лопе де Вега, как и суждение Виланда, утверждавшего, что у Шекспира комическое и трагическое перемешаны самым странным образом. Это, собственно, и его, Г. Лессинга, точка зрения, ведь именно Г. Лессинг стремился разрушить правила, оберегающие чистоту жанров, которые были внедрены классицизмом.
Конечно, мы не являемся единственными и первыми, кто такой вопрос применительно к русской культуре ставит. Ставили этот вопрос еще в начале ХХ века, например, философ В. Базаров, который фиксирует исключительную одаренность русских людей в этом смысле и исключительную их смешливость. Правда, В. Базаров тут же, в этой самой своей работе, опубликованной в 1916 году, и опровергнет свое утверждение об этой исключительной смешливости, но и не подвергнет сомнению принципиальный вопрос о специфичности русского смеха. Наоборот, обращаясь к классикам, он как раз и попытается продемонстрировать эту исключительность. Полагаю, что высказанные В. Базаровым в этой работе суждения представляют любопытную и во многом удачную попытку в решении поставленной проблемы.
Раз общественностью и сообществом искусствоведов и культурологов признано, что наиболее глубокие суждения и открытия, связанные со смеховой стихией, сделаны в ХХ веке М. Бахтиным, то не лишним было бы у выдающегося философа, вынужденного волею судьбы заниматься исключительно филологическими предметами обнаружить соображения о специфике русского смеха. Так, сопоставляя разные культуры и, прежде всего, как это всегда принято, русскую и западноевропейскую, М. Бахтин утверждает, что для западноевропейской культуры характерно то, что возникающие в истории последовательно разные частные формы смеха, в конце концов, объединились, представ в таком значимом ментальном и культурном феномене, как карнавал. Для выражения ментальности «фаустовского» человека карнавал стал явлением синтетическим и универсальным.
Что же касается русской культуры, то такого синтеза здесь не получилось, и смеховая культура здесь, не являясь менее выраженной, тем не менее, не получила такой универсальной формы, как это имело место на Западе. Здесь смеховое, т.е. карнавальное начало существует в самых разных проявлениях (праздниках, обрядах, в фольклоре и т.д.), но единой универсальной формы все-таки не сложилось. «В России этот процесс (объединение в единую форму – Н. Х) вовсе не совершился, – пишет М. Бахтин, – различные формы народно-праздничного веселья как общего, так и местного характера (масленичного, святочного, пасхального, ярмарочного и т. д.) оставались необъединенными и не выделили какой-либо преимущественной формы, аналогичной западноевропейскому карнавалу» [23].
Это конечно, не означает, что в России движение к такой форме отсутствовало. Но ведь в России были движения и в сторону Ренессанса, и в сторону Реформации, но ни то, ни другое здесь не осуществилось. Видимо, не получилось и с карнавалом. Хотя, как известно, попытки привить карнавальные формы, как и многое другое из западной культуры, имели здесь место в эпоху Петра I. Об этом упоминает и М. Бахтин, называя конкретные явления из реформ в области культуры, в том числе, обряд избрания «всешутейшего папы» и т.д.
Все, что сказал М. Бахтин о карнавале, который, в отличие от западной культуры, не стал синтетической формой многообразных проявлений архаической и традиционной культуры, характерно и для жанра уже как явления истории искусства. Так, В. Топоров весьма внимателен к предформе античной трагедии, т. е. к ритуалу. Он пишет: «Но парадокс ситуации состоит в том, что, хотя возникновение греческой трагедии было таким уникальным прорывом в новую сферу, который увел трагедию предельно далеко от ее ритуальных истоков, вместе с тем именно трагедия эвристически наиболее ценный материал для сопоставления с ритуалом» [24].
Прослеживая становление трагедии от начальных форм в виде ритуала до окончательно сложившихся, этот механизм становления чистого жанра В. Топоров соотносит с теми процессами, которые происходят в других культурах, в которых движение в сторону окончательного варианта жанра происходит, но тормозится и, в конечном счете, развитой самостоятельной формы не достигает. Этот механизм застревания на промежуточной фазе становления жанра теперь уже продемонстрирован на примере не карнавала, а жанра. Это характерно для славянской культуры. «Именно поэтому, исследуя вопрос об источнике – locus’е греческой трагедии, целесообразно начать с обсуждения такого простого случая как одна группа ритуалов в славянской традиции, где соответствующее греческой трагедии явление не развилось ни в драму, ни в театр, но зафиксировано в дошедшей до наших дней форме «преддрамы» (с трансформации снижения, если исходить как из нормы из греческой ситуации» [25].
Так, известно, что слово «трагедия» переводится как «козлиная песнь», что как раз и демонстрирует связь трагедии как жанра с предшествующим ей ритуалом жертвоприношения козла как заместительной жертвы. Но ведь в славянской традиционной культуре известны шуточные ритуалы с козлом или козой. В. Топоров приводит много примеров с такими ритуалами. Таким образом, преджанровая форма в славянской культуре имеет место, но в самостоятельный жанр она не развивалась. Но дело не только в консервации смеховой стихии, когда ее выражение в разных и самостоятельных «чистых» жанрах тормозится. С. Аверинцев, как и В. Базаров, тоже констатирует, что в России смеялись всегда много, но смеялись иначе, чем, например, на Западе. Смех здесь пугал именно потому, что он был символом свободы и обузданию не поддавался. При этом потребность в его обуздании исходила не только от власти. «Смеялись в России всегда много, – пишет С. Аверинцев, – но смеялись в ней всегда более или менее «нельзя» – не только в силу некоего внешнего запрета со стороны того или иного начальства или же общественного мнения, но прежде всего в силу того, что, положа руку на сердце, чувствует сам смеющийся. Любое разрешение, любое «можно», касающееся смеха, остается для русского сознания не вполне убедительным. Смеяться, собственно, – нельзя; но не смеяться – сил никаких нет» [26].
О том, что русский смех представляет что-то исключительное и от смеха западного человека отличается, свидетельствует, например, такой весьма показательный факт из истории театральных контактов – восприятие спектакля «Гроза» по пьесе А. Островского в Париже французскими зрителями и критиками. Получившая выражение в пьесе А. Островского русская ментальность, в том числе, и в своем комическом варианте парижан немало удивила. По признанию французских критиков, спектакль возвращал в средние века. Они констатировали полное отсутствие у русских страха показаться смешными («Наивной душе чувство смешного неизвестно»). Русские, по их мнению, все еще ощущают соблазн греха и тем самым продолжают сохранять средневековую ментальность. «Эти далекие люди, разумеется, с некоторыми русскими особенностями, – рассуждает один из критиков, – находятся в том же состоянии души, в каком находились наши отцы в средние века. И эту постоянную озабоченность насчет греха, которая идет рука об руку, как ни в чем не бывало, с самыми насильническими и зверскими инстинктами, можно сколько угодно встретить в наших «мистериях». И самое забавное, это то, что душевные настроения, которым у нас стукнуло 400 лет, выражаются неизвестными «письменными людьми», столь же наивными, как и окружающие их современники, но и писателями, по-видимому, образованными и обладающими значительной способностью наблюдения» [27].
Что же касается первых десятилетий ХХ века, то здесь в первую очередь следует говорить о том, что М. Бахтин называет «карнавализацией сознания» и именно потому, что в России происходил радикальный тотальный переворот, что и получило выражение в трех революциях. Конечно, взрыв смеха был провоцирован этим революционным переворотом. И здесь снова следует вспомнить А. Герцена. Он пишет: «Смех имеет в себе нечто революционное… Смех Вольтера разрушал больше плача Руссо» [28]. Это, конечно, так. Радикальные сдвиги способствовали новому видению обновляющегося мира. С этой точки зрения, многое, что казалось устаревшим (а что в начале ХХ века не казалось устаревшим), заслуживало осмеяния.
Так получилось, что к практике смеха этого времени оказалась приложимой концепция смеха А. Берсона. Судя по всему, именно А. Бергсон во многом и спровоцировал те идеи о комическом, которые возникли под воздействием практики авангарда и прежде всего футуризма и теоретиков так называемой «формальной» школы в русской филологии. Несомненно, концепция А. Бергсона казалась адекватной для интерпретации того смеха, что наблюдался в практике начала ХХ века. Почему же она могла быть не адекватной, если с Петра I Россия, ассимилируя идеи модерна, имела достаточно объектов для осмеяния, стоящих на пути к созиданию более справедливого общественного устройства по образцу западных обществ.
Эта мысль недвусмысленно звучит у С. Шевырева, попытавшегося предпринять первый опыт аналитики русского смеха. Он писал: «Комические дарования никогда не иссякают у нас в отечестве. Зародыш их крепко держится в свойствах самого народа, а движение, данное Петром Великим, не останавливается. Тайна особенного сочувствия нашего к комедии национальной, поражающей смехом современные недостатки общества. Где бы они ни являлись, заключаются, – повторю кстати, что уже сказал, – в твердом сознании свежих, разумных сил народа и государства, могущих исцелить каждый недостаток, лишь бы только он был искренно и добросовестно сознан. Мы не боимся насмешки, мы чужды в этом случае ложного, лицемерного стыда, мы любим комические таланты между писателями и актерами и желательно, чтобы они развивались, чтобы в добром веселом и простодушном смехе наших комедий очищался и яснел более и более светлый разум русского народа» [29].
Дань А. Бергсону, попытавшемуся раскрыть тайну смеха, воздавал, в том числе, и З. Фрейд, работа которого о комическом появилась практически одновременно с идеями А. Бергсона о смехе и, видимо, и побудила его (впрочем, он в этом признается и сам) заняться смехом. Высоко оценивая концепцию А. Бергсона, З. Фрейд, однако, предлагает собственную разгадку смеха. «Прекрасная и вдохновляющая книга Бергсона, – пишет З. Фрейд, – неожиданно побудила нас искать объяснение комического в его психогенезе» [30]. Тем не менее, воздавая должное философу, З. Фрейд разгадку смеха не связывает с философией в принципе и пишет о безуспешных попытках философов разрешить проблему комического [31].
Таким образом, если М. Бахтин, который, кстати, хорошо осведомлен в вопросах фрейдизма, не связывает разгадку смеха с эстетикой, то З. Фрейд это же самое утверждает по отношению к философии. Таким образом, объяснение комического у З. Фрейда связано с психологией и, еще точнее, с психоанализом. Согласно З. Фрейду, сопоставившему остроумие, а, следовательно, и смех со сновидением, а то и другое, в свою очередь, с бессознательным проявлением психики, под комическим следует понимать механизм регрессии на ранние уровни психики, которые он называет инфантильными. Это наиболее глубинные и наиболее ранние слои мышления, отождествляемые З. Фрейдом с детским мышлением. Эффект комического З. Фрейд ставит в зависимость от регресса в глубинные слои чувственного мышления. Это блокирование рациональных слоев сознания и регресс в чувственные слои.
Но если сновидение имеет особую структуру, то такую же структуру имеет и комическое. Поскольку смысл сновидения для самого человека непонятен, то это же самое происходит и с комическим. Ведь комическое предполагает реальность вытесненного или даже асоциального. Но поскольку полное вытеснение того, что не принимает ни социум, ни культура, невозможно, то энергия бессознательного находит обходные пути, о чем и свидетельствует разрядка напряжения с помощью остроумия и вообще комического. Таким образом, как получается, психологический или психоаналитический подход подводит к выявлению функций смеха. По мнению З. Фрейда, комическое предполагает возврат мышления на преодоленные стадии возраста человека и не только. Это возврат и в ранние эпохи становления человека, и в то же время в преодоленные человечеством в целом исторические эпохи. Но в данной работе З. Фрейд под этим скорее подразумевает лишь ранние стадии индивидуальной биографии человека.
Другой представитель психоанализа К. Юнг подхваченную им у своего учителя и единомышленника З. Фрейда идею регресса истолковывает уже применительно к фазам исторического развития человечества, и этот механизм рассматривает на уровне культуры. Обращаясь к тому, что в 20-е годы называли «эксцентризмом», мы попробуем выявить социально-психологические корни этого явления, а также разъяснить осмысление этого явления, которое было заимствовано из философии, в частности, у А. Бергсона. Однако мы попробуем объяснить, что бергсоновская концепция смеха хотя некоторые аспекты смеха и проясняет, но все же объяснение того, что в начале ХХ века произошло со смеховой стихией, она исчерпать не способна.
Так получилось, что переходная эпоха, которой явился рубеж ХIХ – ХХ веков, способствовала прорыву в смеховую стихию в ее первоначальных, древнейших формах. В этом ключе мы рассмотрим то явление, которое в 20-е годы называлось эксцентризмом. Касаясь в связи с творческим методом ФЭКСов, В. Недоброво пишет: «Принято думать, что эксцентризм – это широкие клетчатые брюки, зеленые волосы, продавленный цилиндр, негр в голубом фраке, фокстрот или бокс» [32]. Пишущий эти строки явно задался целью, наконец-то, объяснить феномен эксцентризма, в котором закрепляется синтез движений – акробатического, спортивного, танцевального, конструктивно-механического, когда, как сформулировано в манифесте эксцентризма, «двойные подошвы американского танцора… дороже пятисот инструментов Мариинского театра» [33]. Собственно, в этой формуле мы узнаем не только прием раннего С. Эйзенштейна, но и театральную археологию В. Мейерхольда, приветствующего варьете и мюзик-холл.
Когда В. Шкловский представляет книгу В. Недоброво, он замечает, что теория эксцентризма связана с теорией аттракциона как значимого момента в монтажной структуре. Эксцентризм В. Шкловский понимает как некую конструкцию, основанную на выборе впечатляющих моментов и на новой, не автоматической их связи («Эксцентризм – это борьба с привычностью жизни, отказ в ее традиционном восприятии и подаче» [34]). Что касается самого В. Недоброво, то вот как он понимает эксцентризм, хотя это его видение опять же заимствовано из известной статьи В. Шкловского. «Мы перестаем замечать вещи, – пишет он, – которые нас окружают постоянно. Мы бессознательно совершаем привычные действия, утеряв способность вдумываться в них. Многократное видение вещи в определенном контексте автоматизирует это видение. Я перестаю различать вещи, стоящие на моем письменном столе и воспринимаю их суммарно. Может пройти очень много времени пока я замечу, что какую-нибудь вещь украли. Для того, чтобы видеть вещи, нужно выводить их из автоматизации. Мы начинаем по-новому видеть вещь в сочетании ее с другими непривычными предметами» [35].
Но что такое разрушение автоматического восприятия вещи? Это разрушение как основание замысла произведения В. Шкловский обозначал как «остранение». Вот В. Недоброво и определяет метод ФЭКСов как использование приема остранения, т. е. выведения восприятия вещи из автоматизма, без чего искусства не существует. Позднее этому понятию О. Ханзен-Леве придаст универсальный смысл и представит его не только методом анализа, характерным для «формальной» школы, но и универсальным методом искусства.
Откуда же это понятие появилось у самого В. Шкловского? Судя по всему, из концепции смеха А. Бергсона. Мы еще вернемся к этому философскому концепту теории В. Шкловского, а сейчас попробуем понять эксцентризм, который, как доказывал Г. Козинцев, уже обещал столь значимый для искусства ХХ века абсурдизм, в контексте пробуждающейся в начале ХХ века особой формы смеха, что опять же связано с феноменом регресса. Мы уже констатировали, как, начиная с экспериментов М. Рейнхардта, в театре начали возрождаться формы античного театра. Однако несмотря на вспыхнувший и расширяющийся интерес к античному театру, что можно проиллюстрировать отношение к этому русских символистов, в частности, Вяч. Иванова, попытки его возрождения мало что дали. В одной из своих статей А. Белый подвергнет эту театральную утопию резкой критике [36].
Уже эксперимент М. Рейнхардта свидетельствовал, что такого рода эксперименты не удавались. Античные образы постигались совсем на другом уровне. Но в это же время имел место и другой соблазн – воскресить дух средневековых театральных представлений. И, может быть, в большей степени, чем трагедии Эсхила и Софокла, они соответствовали духу времени. Так, например, констатируя успех представлений Страстей Господних в 1910 году в Обераммергау, высказывает мысль о том, что современной эпохе созвучен вовсе не античный, а скорее средневековый театр. «Античная драма, – пишет З. Ашкинази, – не стала нам ближе после рейнхардтовских Эдипа и Орестейи. Напротив, эти спектакли наглядно показали, какую пропасть разверзла тысячелетняя культура между греческой орхестрой и современным зрительным залом, между религиозным миросозерцанием эллинского поэта, творившего миф в согласии с народными верованиями, и скептической современной толпой, для которой боги Олимпа превратились в комические персонажи оффенбаховских опереток» [37].
Однако, по мнению автора журнала «Ежегодник императорских журналов», современной эпохе больше подходит форма средневекового театра, правда, совсем не в той отредактированной церковью форме, которая дошла до сегодняшнего времени, а в той, которую еще следует реконструировать. При этом реконструировать и ту комическую составляющую средневековых зрелищ, которую церковь пыталась свести к минимуму и вообще вытравить. Удивительно, но З. Ашкинази уже вызывает к жизни тот замысел, который позднее будет реализован М. Бахтиным. Ведь для того, чтобы разгадать тайну смеха, особенно в том его проявлении, что существует в ХХ веке, необходимо было преодолеть реальность того, что мы называем историей искусства и вернуться к самым истокам, когда функция смеха к художественной функции не сводилась, когда смех являлся элементом ритуала и мифа.
Иначе говоря, нужно было преодолеть не только установки истории искусства, но и христианскую и, следовательно, религиозную картину мира. Может быть, уязвимым местом многих теоретиков, рассуждающих о смехе, является то, что под комедией они подразумевают лишь успевший устояться в практике театра, да и вообще в искусстве жанр, причем, как самостоятельный жанр. Но если выходить за пределы истории искусства, то мы обнаружим, что отделить этот жанр от других жанров невозможно. Но когда З. Ашкинази размышляет о театре начала ХХ века, он пока лишь сближает его со средневековым театром. «Недостающий современной драме трагический пафос нашелся в творениях более поздней эпохи монументального театра, в средневековых страстях и мистериях, – пишет он. – Их земные и мистические персонажи более близки и даже как будто сливаются с религиозными верованиями современного зрителя, трагический пафос заменен в нем пафосом христианского страстотерпчества, опустевшее и не дающее отклика небо Олимпа – христианским небом, строгая красота античного мифа – христианской мистикой» [38].
Разобраться в актуализации средневековых комплексов в реализации нашего замысла весьма важно. Ведь своей целью мы ставим осознание новой истории визуальности, реабилитирующей ранние эпохи, эпохи предшествующей истории искусства. Эта наша мысль касается не только живописи, демонстрирующей ближе к ХХ веку интерес к архаическим формам видения, которые Г. Вельфлин называл осязательно-тактильными. Этот комплекс реабилитации ранних систем видения касается не только живописи, но и зрелищ и, в частности, театра. Собственно, обращаясь к теоретическому наследию В. Мейерхольда, мы уже это констатировали. Касаясь таких жанров, как комедия и трагедия, мы тоже обязаны выявить этот комплекс искусства ХХ века, связанный с реабилитацией архаики. Наблюдения над актуализацией средневековых форм видения интересны именно с этой точки зрения.
Однако реконструируя средневековую традицию, мы отдаем отчет в том, что в этой традиции отложились и продолжают сохраняться и более ранние пласты культуры. Так, цитируя Г. Узенера, О. Фрейденберг утверждает, что в поздних формах упорно продолжают жить ранние, свидетельствующие о предварительной стадии пройденного развития [39]. Вот, например, вопреки мыслителям модерна, в искусстве продолжают воспроизводиться структуры мышления, характерные для средневекового человека. Какие это структуры? Для таких структур характерна минимальная возможность абстрагирования в осознании предметно-чувственного мира. Может быть, это определяющая черта тех мозаичных структур, которые мы находим в современной культуре, которая, несмотря на усилия представителей модерна, продолжает поддерживать преемственность в эволюции художественного сознания. Но ведь эта определяющая черта есть ни что иное, как особенность средневекового мышления.
Эту особенность в эпохи первоначального и возвращающегося варварства отмечал еще Д. Вико. «Поэтические характера, в которых заключается вся сущность мифов, – пишет Д. Вико, – возникли из потребности природы, неспособной абстрагировать формы и свойства от предметов; следовательно, они были способом мышления для целых народов, поставленных перед такой природной потребностью, а это происходило во времена их наибольшего варварства; неизменное свойство этих мифов – всегда расширять частные идеи: об этом у нас есть прекрасное место из «Этики» Аристотеля, где он говорит, что люди недалекие из каждой частности делают максиму» [40].
В качестве примера Д. Вико ссылается на греческих и латинских поэтов, у которых образы как богов, так и героев превосходят размеры человека. То же происходит и во времена вернувшегося варварства, т. е в средние века, когда изображения Бога – отца, Иисуса Христа, девы Марии предстают в преувеличенных масштабах. Но со временем нарастает абстракция и, соответственно, способность систематизировать многие частные явления по каким-то присущим им признакам. С точки зрения Д. Вико, этот процесс заметно продвинулся в эпоху Сократа. «… Сократ начал выводить интеллигибельные родовые понятия, т.е. абстрактные универсалии, посредством индукции, которая является собиранием единообразных частностей; последние образуют одно родовое понятие из того, в чем они единообразны друг с другом» [41].
Любопытно, что когда Д. Вико говорит об отсутствии в мышлении народов абстрагирования, то ведь это как раз и характеризует структуру чувственного мышления. Когда он говорит о несоответствии масштабов сакральных и героических образов, то он имеет в виду то, что Гегель обозначает как структуры мышления, характерные для символической фазы в становлении Духа. Если исходить из суждений З. Ашкинази как знатока театра этого времени, то нельзя не задаться вопросом о том, что делает средневековый театр близким и созвучным театру первых десятилетий ХХ века? Мы ссылаемся на З. Ашкинази, поскольку его идея созвучности русского театра рубежа ХIХ – ХХ веков средневековому, а вовсе не античному театру, совпадает с нашей точкой зрения, согласно которой ХХ век и в самом деле, как считал, собственно, и Н. Бердяев, о чем свидетельствует его книга [42], является «новым Средневековьем».
Казалось бы, если русская культура этого времени не столь созвучна античности, то созвучна скорее Ренессансу, с которым, собственно, в начале ХХ века ее нередко и сопоставляли. Не случайно эту эпоху по аналогии с западным Ренессансом называли русским культурным Ренессансом. Но в том-то и дело, что странным образом Ренессанс русский актуализировал средневековые формы, в данном случае, театральные формы. Собственно, средневековые формы улавливались не только в практике театра, но и в бурно развивающемся кинематографе. Так, Б. Эйхенбаум писал: «Общий перелом культуры, во многом возвращающий нас к принципам раннего средневековья, выдвинул решительное требование – создания нового искусства, свободного от традиций, примитивного по своим «языковым» (смысловым) средствам и грандиозного по возможностям своего влияния на массы. Соответственно «техницизму», под знаком которого живет культура нашей эпохи, это искусство должно было родиться из недр самой техники» [43]. Оказывается, вторжение технологии в сферу искусства не мешает возрождению в нем тех форм, которые были вызваны к жизни на символической фазе становления Духа, которая, как утверждает Гегель, явилась самой ранней фазой в истории.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Труды первого Всероссийского съезда сценических деятелей 9-23 марта 1897 года в Москве. Т. 1. СПб., 1898. С. 53.
[2] Там же. Т. 2. С. 267.
[3] Там же.
[4] Студия. Журнал искусства и сцены. М., 1912. № 27. С. 9.
[5] Россов Н. Софокл в руках современности // Театр и искусство. 1912. № 18. С. 385.
[6] Ашкинази З. Трагедия, мистерия и моралите // Ежегодник императорских театров. 1912. № 7. С. 7.
[7] Лессинг Г. Гамбургская драматургия. М.-Л.: Academia, 1936. С. 21.
[8] Всеволодский-Гернгросс В.Н. История русского театра. Л.-М.: Теа-кино-печать, 1929. С. 30.
[9] Там же. С. 73.
[10] Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному // Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. С. 84.
[11] Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и ренессанса. М.: Эксмо, 2014. C. 9.
[12] Хренов Н.А. Методологический потенциал культурологии в изучении отечественного и мирового художественного процесса // Искусство в исторической динамике искусства. М.: Согласие, 2015. С. 206.
[13] Бахтин М.М. Указ. соч. С. 684.
[14] Там же. С. 48.
[15] Герцен А.И. Сочинения: В 9 т. Т. 3. М.: Гослитиздат, 1951. С. 92.
[16] А.И. Герцен об искусстве. М.: Искусство, 1954. С. 223.
[17] Бахтин М.М. Указ. соч. С. 19.
[18] Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 3. М.: Мысль, 1964. С. 352.
[19] Иванов С.А. Блаженные похабы. Культурная история юродства. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 92.
[20] Там же. С. 108.
[21] Бахтин М.М. Указ. соч. С. 77.
[22] Лессинг Г. Гамбургская драматургия. С. 254.
[23] Бахтин М.М. Указ. соч. С. 316.
[24] Топоров В. Несколько соображений о происхождении древнегреческой драмы // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983.
[25] Там же. С. 98.
[26] Аверинцев С.С. Бахтин и русское отношение к смеху // От мифа к литературе: Сборник в честь 75-летия Е.М. Мелетинского. М.: Рос. ун-т, 1993. С. 343.
[27] А. К. Русская драма во Франции // Театр и искусство. 1887. № 33. С. 578.
[28] Герцен А.И. Сочинения: В 9 т. Т. 3. М.: ГИХЛ, 1956. С. 92.
[29] Шевырев С. Теория смешного, с применением к русской комедии // Москвитянин. 1851. № 3-4. С. 27.
[30] Фрейд З. Указ. соч. С. 121.
[31] Там же. С. 101.
[32] Недоброво В.В. ФЭКС. Григорий Козинцев. Леонид Трауберг. М.: Кинопечать; Л.: Тип. им. тов. Бухарина, 1928. С. 7.
[33] Эксцентризм. Петроград: Гостипография, 1922. С. 8.
[34] Недоброво В. Указ. соч. С. 6.
[35] Там же. С. 8.
[36] Белый А. Театр и современная драма // Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 153.
[37] Ашкинази З. Указ. соч. С. 10.
[38] Там же.
[39] Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. С. 22.
[40] Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций. М. – Киев: Ирис, REFL-book, 1994. С. 355.
[41] Там же. С. 433.
[42] Бердяев Н.А. Новое Средневековье // Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 1. М.: Искусство, 1994. С. 406.
[43] Эйхенбаум Б.М. Проблемы кино – стилистики // Поэтика кино. М-Л.: Кинопечать, 1927. С. 18.
© Хренов Н.А., 2018
Статья поступила в редакцию 15 июля 2017 г.
Хренов Николай Андреевич,
доктор философских наук, профессор,
Всероссийского государственного университета
кинематографии им. С.А. Герасимова.
email: nihrenov@mail.ru

ISSN 2311-3723
Учредитель:
ООО Издательство «Согласие»
Издатель:
Научная ассоциация
исследователей культуры
№ государственной
регистрации ЭЛ № ФС 77 – 56414 от 11.12.2013
Журнал индексируется:
Выходит 4 раза в год только в электронном виде
Номер готовили:
Главный редактор
А.Я. Флиер
Шеф-редактор
Т.В. Глазкова
Руководитель IT-центра
А.В. Лукьянов
Наш баннер:

Наш e-mail:
cultschool@gmail.com
НАШИ ПАРТНЁРЫ:
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Культуру культуры» обязательна.
© Научная ассоциация исследователей культуры, 2014-2024







