НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Научное рецензируемое периодическое электронное издание
Выходит с 2014 г.

Гипотезы:
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Э.А. Орлова. Антропологические основания научного познания
Дискуссии:
В ПОИСКЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (рубрика А.Я. Флиера)
А.В. Костина, А.Я. Флиер. Тернарная функциональная модель культуры (продолжение)
Н.А. Хренов. Русская культура рубежа XIX–XX вв.: гностический «ренессанс» в контексте символизма (продолжение)
В.М. Розин. Некоторые особенности современного искусства
В.И. Ионесов. Память вещи в образах и сюжетах культурной интроспекции
Аналитика:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
А.Я. Флиер. Социально-организационные функции культуры
М.И. Козьякова. Античный космос и его эволюция: ритуал, зрелище, развлечение
Н.А. Хренов. Спустя столетие: трагический опыт советской культуры (продолжение)
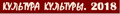

Н.А. Хренов
Судьба «русской идеи» в ХХ веке: А. Солженицын
(окончание)
Аннотация. Статья посвящена анализу трансформации «русской идеи» в исторических условиях ХХ века на примере творчества А.И. Солженицына и его метаний между славянофильством и западничеством. Особенное внимание уделено адаптации «русской идеи» к особенностям советской власти, манифестировавшей декларативный интернационализм, но фактически элиминировавшей всякое национальное начало в культурно-политической идеологии народов.
Ключевые слова. «Русская идея», Солженицын, славянофильство и западничество, консерватизм и либерализм, советская власть, социализм, коммунистическая идеология, сталинская эпоха.
5. Платформа А. Солженицына как третий вариант реабилитации консервативной традиции
Конечно, последующее, связанное с реформами развертывание истории, обозначенное как «перестройка», свидетельствовало об активизации и успехах либеральной стихии и, следовательно, соответствовало идеалам западников нового поколения. Наше время – это переоценка двух или трех десятилетий отнюдь не триумфа либеральной идеи и, следовательно, нового ренессанса консервативных традиций. И это можно считать уже третьей фазой истории консерватизма. Вот с точки зрения распространения уже знакомого настроения мы и должны понять личность и деятельность А. Солженицына, которого один наш публицист называет вождем русской Контрреформации [33].
В какой-то степени такое восприятие А. Солженицына и в самом деле справедливо. Ведь в некоторых своих выступлениях он предстает критиком всей той эпохи, которую следовало бы называть эпохой модерна. Перечисляя ситуации в истории возрождения консервативной традиции в России ХХ века, мы прояснили лишь вопрос о первой и второй фазе этой истории, т.е. об использовании консервативной традиции в границах русского марксизма. Мы констатировали попытки возрождения этой традиции, связанные со Сталиным, и совершенно легальные попытки объяснения, почему русский марксизм можно соединить с консерватизмом, что предпринималось, как мы убедились, некоторыми критиками эпохи оттепели. Конечно, эта вторая фаза в истории возрождения консервативной традиции уже ушла в прошлое. Ее продолжает сегодня только одиозный А. Проханов.
Но в стороне у нас оказалась третья фаза этой истории. Она-то как раз и связана с идеями Солженицына. По сути, это особый вариант консерватизма, не совпадающий с тем, что имело место на первой и второй фазе. Нам представляется, что это самая конструктивная фаза, которая возникает синхронно со становлением культурологической рефлексии в России. Вариант Солженицына, чтобы ни утверждали некоторые его критики, естественно, исключал сталинский вариант консерватизма, как и вообще исключал русский марксизм, который, согласно его утверждению, привел русский народ к катастрофе. Но этот его вариант никоим образом не согласуется и с идеями, согласно которым марксизм, социализм и тоталитаризм не противоречат русской ментальности и русскому национальному духу. Это такой компромиссный вариант, удобный для тех, кто стремился адаптироваться к системе и выживать в ней, хотя и сохранял за собой некоторую по отношению ней дистанцию.
Вариант Солженицына, если, конечно, иметь в виду позднего Солженицына (поскольку в «Письме к вождям Советского Союза» он еще наивно полагал, что вожди еще смогут все исправить и перевоспитаться) очищал историю и от игр с марксизмом, и от самого марксизма. На этот счет у писателя не было никакого прекраснодушия. По его мнению, все рецепты и прогнозы Маркса оказались неосуществимы, а потому и продолжать им следовать и с ними заигрывать не имеет никакого смысла. Следует все начинать сначала. Но если начинать сначала, то, следовательно, необходимо возвращаться к корням, истокам, вписываться, а точнее, возвращаться в российскую историю.
На вопрос о том, пытается ли писатель «выковать» сознание своего народа, Солженицын, обращая внимание на особые русские условия, уточнял: «У нас специально, настойчиво уничтожалась связь времен, используя шекспировское выражение, уничтожалась память о том, как это было, и поэтому для восстановления нашего самосознания, пожалуй, важнее всего – восстановить память об истинных событиях» [34]. Это совсем не означает культивировать ее уязвимые стороны, а они, естественно, имели место. Вот скажем, приверженность России имперскому комплексу. Она присуща и старой, и новой сталинской империи. Эта тема для русской истории и для искусства тоже весьма значима. Известно, что, как утверждалось еще в «Вехах», история русской интеллигенции – это история противостояния власти, а следовательно, и империи.
Однако в этой истории есть и любопытные нюансы. Империя вообще обладает особой гипнотической притягательностью, и под ее обаянием находился даже А. Пушкин, о чем напомнил Г. Федотов [35]. По выражению философа, великий поэт был певцом не только свободы, но и империи. В нем как-то уживались и революционер, и консерватор, и в его храме Аполлона было два алтаря – России и свободы. Эти два комплекса поэт еще совмещал, находясь под воздействием имперского ренессанса ХVIII века. Между тем, с некоторых пор реальность уже не давала для этого повода. Эпоха Николая II это противоречие демонстрировала. Одним из ответов на него было появление рефлексии славянофилов, оказавшихся по отношению к власти в оппозиции.
Касаясь этого переворота в сознании, затрагивающего отношение к империи в России, В. Розанов объясняет гипноз российской империи. Он отмечает особую игровую ментальность той эпохи в русской империи, которая связана с именами Павла I и Александра I. «Почему на времени Павла I, как и Александра I, лежит какое-то особое дворцовое великолепие, какого уже отнюдь не лежит на более сухом, формальном и казенном царствовании Николая Павловича? В чем тут секрет? – вопрошает В. Розанов. – В Павле I были капризы, а не воля: в Александре I было то упоенное, то меланхолическое безволие. Россия при них формировалась, но еще не сформировалась. Вот это-то, может быть, это, и напоило эпоху богатством личного элемента тем великолепием «придури», без которого жизнь есть слишком дело и слишком не сказка. В двух этих царствованиях, как еще и в царствование Екатерины II, лежит слишком много сказки, романа, и это сообщает им особенную занимательность и привлекательность» [36].
В. Розанов убедительно объяснил, почему Пушкин оказался под воздействием имперского комплекса. Но Солженицын представляет другую эпоху, когда государство уже воспринималось подавляющей дух машиной. Тема критики имперских амбиций у Солженицына звучит уде в «Письме вождям Советского Союза». «Потребности внутреннего развития, – пишет он, – несравненно важней для нас, как народа, чем потребности внешнего расширения силы. Вся мировая история показывает, что народы, создавшие империи, всегда несли духовный ущерб. Цели великой империи и нравственное здоровье народа несовместимы. И мы не смеем изобретать интернациональных задач и платим по ним, пока наш народ в таком нравственном разорении и пока мы считаем себя его сыновьями» [37].
Эта же идея прозвучит в его статье 1990 года «Как нам обустроить Россию?». Пытаясь осмыслить логику распад Советского Союза, писатель в этом распаде улавливал позитивный смысл. «А уж сегодня это звучит с тысячекратным смыслом: нет у нас сил на окраины, ни хозяйственных сил, ни духовных. Нет у нас сих на Империю – и не надо, и свались она с наших плеч: она размозжает нас, и высасывает, и ускоряет нашу гибель» [38]. Отречение от имперского комплекса писатель связывает с выздоровлением от болезни, которой и был социализм. Но следование этой доктрине привело к иссяканию физических и духовных сил народа. Чтобы преодолеть этот упадок, необходимо похоронить идею Империи, отказаться от нее, преодолеть гипноз «третьего Рима». «Надо теперь жестко выбрать: между Империей, губящей прежде всего нас самих, – пишет он – и духовным и телесным спасением нашего народа. Все знают: растет наша смертность, и превышает рождения. – Мы так исчезнем с Земли! Держать великую империю – значит вымертвлять свой собственный народ. Зачем этот разнопестрый сплав? – чтобы русским потерять своре неповторимое лицо? Не к широте Державы мы должны стремиться, а к ясности нашего духа в остатке ее» [39].
Именно последствия вспышки имперского комплекса в эпоху Сталина привели к тому, что писатель формулирует так: «Мы вступили в период необратимого вымирания славянских народов в СССР» [40].
1. Мессианский комплекс как объединяющий разные проявления славянофильства комплекс и как ментальный комплекс русских
Конечно, противостояние империи и критика империи приходит вместе с накопившимся опытом. К этому противостоянию подводит реальность империи в ее сталинской форме. Но ведь империя не является главным элементом того мировосприятия, которое формировалось столетиями, определяло ментальность и которое начало осознаваться славянофилами. Главным все же было желание осознавать себя избранным и способным одарить мир истинной верой и свободой. Этот комплекс был присущ «Риму второму», и он был заимствован Римом третьим или Россией. Это и есть мессианский комплекс. Имея религиозное происхождение, мессианский комплекс породнился с имперским комплексом.
Вопрос о мессианизме русских постоянно обсуждается. Так, например, В. Шубарт, пытаясь выявить базовые типы личности в каждом типе культуры, утверждал, что славянским народам и, в частности, русскому соответствует мессианский тип личности. Этот тип личности «чувствует себя призванным создать на земле более возвышенный, божественный порядок, образ которого он скрыто носит в себе» [41]. Однако все дело в том, что это желание и стремление осчастливить другие народы трудно осуществить, не опираясь на языческие ценности, т.е. мощь и силу. Поэтому мессианизм вынужден опираться на империализм. Это было присуще Византии как одному из лидеров Средневековья, постепенно уступавшему этот свой статус Западу, и это сегодня присуще Америке.
Но все дело в том, что этим в своей истории грешила и Россия, что стало предметом критики славянофилов. Актуализация консервативной традиции не может быть нейтральной по отношению к религии. Русский консерватизм основывается на православии. Поэтому консерватизм Солженицына предполагает выяснение его отношений с религией. Отношение Солженицына к религии позитивно. Он констатирует возрождение в России православной церкви как конструктивный процесс. Так, на круглом столе в Японии (1982) на вопрос: считает ли он возможным возрождение в России гуманизма с Богом, он отвечал: «Видите, такого понятия – «гуманизм с Богом», – по-моему, не существует. Гуманизм если не начнет, так кончит тем, что представит вместо Бога – человека. А существует христианство. И в смысле христианства – да, не только я думаю, что возрождение произойдет, то оно уже сейчас значительно происходит. Это происходит в разных формах, вот подобно тому, как река бывает снаружи замерзшая, а внизу течет вода и рыба живет. Подобно этому религиозная жизнь в Советском Союзе снаружи так задавлена, и официальная церковь настолько придавлена государством, что не смеет себя заявить. Но происходит возврат самого народа к Богу» [42].
Как мы убеждаемся, и в вопросе о религии Солженицын придерживается критической позиции по отношению к модерну. Мы знаем, что ситуация сегодня с религией уже изменилась, и мы снова близки к византийской традиции единения церкви и государства. Возрождение православной России развертывается в соответствии с консервативной византийской традицией. Возврат русских к богу происходит под контролем церкви, а следовательно, и государства. Ведь смыкание церкви и государства – тоже византийская традиция.
Имея в виду религиозное возрождение, которое не проходит мимо внимания Солженицына и в котором он усматривал позитивное начало, в этом возрождении А. Янов как раз и усматривает новую вспышку славянофильства, что не так уж и неверно. Но только ведь славянофильская традиция была реальной и в эпоху Сталина. Только, как уже отмечалось, в каждый период из славянофильского наследия вычитывалось что-то одно. Здесь следует еще иметь в виду, что славянофильская традиция не была единой. Шестидесятники возрождали славянофильство в духе Хомякова, а вот сталинский курс был созвучен тому духу, который заставляет вспомнить сочинение Н. Данилевского, а дух этот как раз и связан с имперским комплексом. Следует отметить, что некоторые плюралисты в консервативном взгляде Солженицына видели его стремление «восстановить византинизм третьего Рима» [43], что, конечно, приводит к отождествлению позиций Сталина и Солженицына.
Тем не менее, между этими двумя противоположными идеями славянофильства можно уловить нечто общее, а именно, тот комплекс, который мы называем мессианским комплексом. С точки зрения этого комплекса не важно, в каких формах будет внесена в мир идея свободы и братства – в формах ли православия как самого подлинного христианства или в формах имперского распространения в пространстве в виде мировой революции, как это характерно для большевиков. Что касается славянофилов первого поколения, то, конечно, их мессианизм носил религиозный характер. Они, конечно, рассматривали русский народ как избранный народ. И он привлекает к себе народы вовсе не силой оружия, своей языческой мощью, а христианской идеей.
Постараемся проиллюстрировать это на примере поэзии А. Хомякова. Именно у А. Хомякова мы находим четко заявленное неприятие империи, в том числе, и в варианте Петра Первого и необходимость в покаянии, причем, коллективном. В этом вопросе Солженицын, конечно, не может не продолжать славянофильскую традицию только в варианте не Н. Данилевского, а А. Хомякова. Кстати, это неприятие империи А. Хомяковым будет иметь продолжение в философии В. Соловьева. Конечно, В. Соловьева трудно представить славянофилом. Но, как утверждал Н. Бердяев, многие идеи все же им были подхвачены у славянофилов. Называя В. Соловьева западником, Н. Бердяев писал, что западничество было «своеобразным подтверждением правды славянофильства, вечного в славянофильстве» [44].
Но если эта критика империи развертывается параллельно утверждению имперского комплекса и доходит до ХХ века, то почему бы А. Солженицыну не размышлять в соответствии с этой же самой традицией. Ведь имперский комплекс продолжает быть актуальным и для ХХ века, и даже для нашего времени. Прежде всего, он был актуальным для эпохи Николая I, когда, собственно, и возникло движение славянофилов. Эта эпоха была следствием эпохи Александра I, когда замышлялись радикальные реформы и когда аура империи стала увядать. Владевшая умами русских людей начала ХIХ века идея свободы спровоцировала консервативную стихию, ставшую основой для жесткого правления Николая I, когда аура империи снова укреплялась и многое определяла. Естественно, что такой гипноз империи в большей степени ощущали массы. Но что касается мыслящих людей, то здесь возникало и нарастало другое настроение, а именно, отторжение от империи, критическое к ней отношение.
Собственно, эти критика империи была свойственна славянофилам. Пожалуй, именно с них начинается это амбивалентное отношение к государству: и преклонение перед ним, и критическое к нему отношение. Эта амбивалентность, которая улавливается еще у А. Пушкина, характерна и для славянофилов. Они первыми ощутили опасность имперского комплекса, приводящего к культу силы, что может привести к расхождению между имперским комплексом, во власти которого могут оказаться массы, с одной стороны, и ментальностью народа, длительное время находившегося под воздействием христианского вероучения. Между тем, имперским комплексом, что был вызван к жизни византинизмом и теми нравственными устоями, которые сформировались в русском народе под воздействием христианства. Славянофилы не доверяли существующей империи. Власть их тоже не жаловала. Н. Бердяев прямо пишет, что к славянофилам официальная власть относилась с подозрением. «Абсолютная бюрократия, – пишет он, – не доверяла никаким идеям, никакому творческому самосознанию свободного духа. В николаевскую эпоху даже славянофилы, – идеальные консерваторы, были на политическом подозрении» [45].
Славянофилы критически относились не только к существующей и современной им империи Николая I. Они вообще отрицательно относились к имперской традиции в принципе. Эта традиция началась в России с Петра Первого. Именно поэтому славянофилы критически относились ко всему петербургскому периоду русской истории. Для них общество, т.е. народ не было синонимом государства. Посвящая свою статью столетию со дня рождения А. Хомякова, В. Розанов назвал его Колумбом, «открывшим Россию» и «покачнувшим русское сознание в сторону народности» [46]. Между тем, по словам Н. Бердяева, петербургский период русской истории демонстрировал уклон власти к империализму, абсолютизму и бюрократизму, что привело к разрыву власти с народной жизнью, с победой механизма над организмом.
Однако отвергая византийский имперский комплекс, А. Хомяков, тем не менее, верил в Россию, любил ее и пророчил ей большое будущее. Он выделял ее из всех других народов. Но наделяя ее сакральным смыслом, он не закрывал глаза и на ее грехи. Это амбивалентное отношение к России звучит в поэзии А. Хомякова. Философ и богослов был еще и поэтом. Для А. Хомякова Россия – избранная Богом страна, верная и последовательная носительница христианских идей, готовая во имя утверждения веры приносить великие жертвы. Так в стихотворении 1836 года «Остров» поэт сулит России как «стране смиренной, полной веры и чудес» великую историю, ведь Бог именно ей отдаст судьбу Вселенной [47]. Именно потому, что Россия полна веры, ей внимают другие народы, и она поведет их за собой в царство свободы. В стихотворении 1839 года «Россия» поэт пишет, что удел России определен Творцом. Его смысл в том, чтобы «хранить для мира достоянье / Высоких жертв и чистых дел; / Хранить племен святое братство, / Любви живительной сосуд, / И веры пламенной богатство, / И правду и бескровный суд» [48].
Россия должна быть верна своему высокому уделу. И только тогда он окажется на уровне своей миссии приобщить другие народы к «таинству свободы». Удивительный парадокс. Вот и сегодня Америка, провозглашая свободу и пытаясь способствовать либерализации всего мира, тем не менее, продолжает утверждать свое военное превосходство и развиваться в имперском направлении. То же самое противоречие можно фиксировать и в истории России. И от «таинства свободы» для других народов отказаться не может и от имперского комплекса тоже.
2. Преодоление имперского комплекса у А. Солженицына: идея общенационального покаяния
Что же может способствовать отречению от имперских амбиций, которые в старой и новой (большевистской) империи имели место? Мы не можем обсудить все грани излагаемой Солженицыным программы выхода из кризиса, в который империя завела. Остановимся лишь на одном аспекте, связанном с актуальностью так называемых традиционных ценностей. Этот аспект снова увлекает нас к славянофильской рефлексии. Одним из средств такого освобождения от имперского обморока Солженицын усматривает в покаянии. Империю в ее сталинской форме Солженицын отвергает. Ведь ее история в который раз в истории подтверждает неконструктивность перманентного возврата к империи.
Обращаясь к историческому опыту России, этот вывод сделает и выдающийся теоретик и историк цивилизации А. Тойнби. Возвращаясь к урокам византийского тоталитаризма, когда имел место контроль над всеми сторонами жизни людей, А. Тойнби утверждал, что, подавляя все предпосылки к творчеству, он привел Византию к преждевременному краху. Относя Россию не к западной цивилизации, а к византийской цивилизации, А. Тойнби показывает, что византийская традиция здесь укореняется. Пытаясь найти свое место в мире и отражая разного рода исторические вызовы, «русские стали искать спасения в тех политических институтах, которые уже принесли погибель средневековой Византии» [49]. Все это приводит к тому, что независимо от того, кто в России оказывается у власти – Петр Первый или Ленин, Россия, как и средневековая Московия ХIV века, «воспроизводит черты средневековой Восточной Римской империи» [50].
Но это перманентное возрождение византийской традиции не могло не порождать сопротивления. В истории этого сопротивления свое особое место заняли славянофилы. Так, А. Хомяков, возлагая, как мы убеждаемся, на Россию великую общечеловеческую миссию, ставил вопрос, всегда ли она оказывается на уровне возложенной на нее Творцом миссии. Оказывается, не всегда. В стихотворении 1854 года «России» А. Хомяков пишет уже о грехах России, в которых следует покаяться. «Но помни: быть орудьем Бога/ Земным созданьям тяжело; / Своих рабов Он судит строго, – / А на тебя, увы! Как много / Грехов ужасных налегло! / В судах черна неправдой черной / И игом рабства клеймена; / Безбожной лести, лжи тлетворной, / И лени мертвой и позорной, / И всякой мерзости полна! / О, недостойная избранья, / Ты избрана! Скорей омой/ Себя водою покаянья, / Да гром двойного наказанья / Не грянет над твоей главой!» [51].
Ну, наконец, нельзя не процитировать стихотворение 1854 года под названием «Раскаявшейся России». По мысли А. Хомякова, Россия сможет занять свой высокий статус в мире лишь после покаяния. «Так, исцелив болезнь порока/ Сознаньем, скорбью и стыдом, / Пред миром станешь ты высоко / В сияньи новом и святом!» [52]. И только в этом случае Россия сможет осуществить свое призвание в мире. «Иди! Тебя зовут народы / И, совершив свой бранный пир, / Даруй им дар святой свободы, / Дай мысли жизнь, дай жизни мир».
Почему А. Хомяков ставит вопрос о покаянии? Потому что историческая традиция, связанная с образом России как «третьего Рима», диктует утверждение имперского комплекса. На этот вопрос Н. Бердяев отвечает так: «Какую бы идеологию ни строить, остается факт, что Россия создала могущественную империю, – империю расширяющуюся и агрессивную. Русская историческая власть движется духом империализма, пафосом могучего земного царства» [53].
Выявляя критику имперского комплекса у А. Хомякова, мы видим, что у А. Солженицына она имеет продолжение. У писателя эта идея была изложена еще в 1973 году в статье «Раскаяние и самоограничение как категория национальной жизни», т.е. задолго до появления известного фильма Т. Абуладзе «Покаяние», выразившего нравственные поиски поколения горбачевской эпохи. Идея покаяния еще не могла реализоваться в брежневскую эпоху, но необходимость в покаянии уже многие ощущали. Она начала реализовываться с наступлением эпохи либерализма. Эту тему писатель начинает с констатации того, что во всех наших ошибках мы обычно виним других – «соседей и дальних конкурентов географических, экономических, идеологических, всегда оправдывая лишь себя» [54].
Не трудно заметить, что этот комплекс врагомании до сих пор актуален. Но, призывает писатель, необходимо в виновниках наших ошибок усматривать самих себя – и не просто себя как отдельных людей, а целые коллективы, нации и народы. «Вот уже полвека мы движимы уверенностью, – пишет он, – что виноваты царизм, патриоты, буржуи, социал-демократы, белогвардейцы, попы, эмигранты, диверсанты, кулаки, подкулачники, инженеры, вредители, оппозиционеры, враги народа, националисты, сионисты, империалисты, милитаристы, модернисты, – только не мы с тобой!» [55]. Все это диктует Солженицыну вернуть утраченные традиционные ценности, сдерживающие и потребность во врагах и вообще проявления имперского комплекса. Эти утраченные ценности связаны с покаянием. Поэтому как бы Солженицын ни отрекался от славянофилов, вопрос о покаянии первыми ставили именно они. А писатель эту идею продолжает. Он подхватывает традицию А. Хомякова и отвергает традицию Н. Данилевского.
Однако ведь вот что интересно. Все-таки, как это ни покажется парадоксальным, но имперский комплекс уживается с потребностью в свободе, причем, не только для себя, но и для других народов, и, следовательно, в братстве. Их роднит то самое, что пронизывает ментальность русского человека, а именно, мессианизм, который В. Шубарт, как уже отмечалось, вообще считает самым характерным признаком славянского и, точнее, русского типа. Имея в виду тип мессианской личности, В. Шубарт пишет: «Им движет не чувство подозрения и ненависти, а чувство глубокого доверия к сущности вещей. Он видит в людях не врагов, а братьев; в мире – не добычу, на которую надо набрасываться, а хрупкую материю, которую надо спасти и осветить. Им движет чувство некоей космической взволнованности. Он исходит из ощущения целостности, которую он носит в себе и которую пытается восстановить в окружающем расколотом мире» [56].
Конечно, А. Солженицын отвергает мессианизм. В полемике с А. Яновым он считает приписываемый им русскому национальному сознанию мессианизм бредовой выдумкой [57]. В статье «Чем грозит Америке плохое понимание России» [1980] он пишет: «Что же касается «исторического русского мессианизма», то это – сочиненный вздор: за несколько веков никакие духовно-влиятельные, или правительственные или интеллигентские слои в России не страдали мессианской болезнью. Да я допустить не могу, чтобы в наше погрязшее время на Земле какой-нибудь народ смел бы считать себя «избранным» [58].
Но вот, скажем, В. Розанов этот комплекс у русских, да и у других народов не отвергал. Да, конечно, никто из политических деятелей и мыслителей не высказывал ничего подобного и, конечно, высказывать не мог. Но ведь кроме провозглашаемых и рационально аргументируемых программ построения социализма в истории имеют место и бессознательные процессы, которые приводят к тому, что результатом сознательных усилий людей является и нечто непредвиденное и неосознаваемое. Об этом хорошо высказывался Гегель. Вот и в революционное сознание прорвалось нечто инородное, что было столь значимым для религии, а именно, хилиазм с его эсхатологической ментальностью [59].
В данном случае важно иметь в виду то, что каждая культура имеет особый тип ментальности. Мессианизм, разумеется, – выражение ментальности народа. Но у одних народов такая ментальность существует, у других отсутствует. Об этом размышлял В. Розанов, сопоставляя древних греков с евреями. Комплекс мессианизма связан с претензией какого-либо народа на избранность и право вести за собой другие народы. По мнению В. Розанова, такая ментальность характерна для еврейского народа. Что же касается эллинов, то такой комплекс у них отсутствует. «Греки не знали мессианизма, не звали его, – пишет В. Розанов. – В эпоху, однако, от нашествия персов до смерти Александра Македонского, приблизительно века в два, они натворили таких и столько дел, что «мессианизм» в светской и образовательной форме у них как-то сам собою вышел» [60]. Касаясь далее ментальности разных народов, В. Розанов мессианизм усматривал у поляков и у немцев, и его отсутствие, например, у французов. Но нам интересно мнение В. Розанова о ментальности русских и о том, присущ им мессианизм или нет. По этому поводу философ говорит так: «У русских – мессианизм славянофилов и главным образом Достоевского, сказавшийся в знаменитом монологе Ставрогина о «народе – богоносце» и в речи самого Достоевского на открытии памятника Пушкину» [61].
Таким образом, у Солженицына поставлен вопрос о коллективном или национальном раскаянии. Но в этом случае становится актуальным обращение к религии. Ведь именно в православии раскаяние предстает значимым нравственным ориентиром. Обращение же к религии как раз и означает обращение к традиционным ценностям, к которым нас сегодня призывают политики. Но отдают ли они до конца отчет в том, что под этим подразумевается. Вот какой эта заложенная православием традиция была в допетровской России, той самой, которую так идеализировали славянофилы. «Дар раскаяния был послан нам щедро, – пишет Солженицын, – когда-то он заливал собою обширную долю русской натуры. Не случайно так высоко стоял в нашей годовой череде прощенный день. В дальнем прошлом (до ХVII века) Россия так богата была движениями покаяния, что оно выступало среди ведущих национальных черт. В духе допетровской Руси бывали толчки раскаяния – вернее религиозного покаяния, массового: когда оно начиналось во многих отдельных грудях и сливалось в поток. Вероятно, это и есть высший, истинный путь раскаяния всенародного» [62].
Но постепенно, чем ближе к ХХ веку, тем эта потребность и способность к раскаянию у русских иссякала. В этом процессе, по мнению писателя, исходной точкой явились реформы Никона и Петра, когда началось «вытравливание и подавление национального духа», «выветривание покаяния, высушивание этой способности нашей» [63]. Чем крепче становилась российская империя, тем слабее давала о себе знать потребность в раскаянии.
Обратим внимание на то, что писатель напрямую связывает это высыхание раскаяния с имперским комплексом, а он, этот комплекс получил развитие в петербургский период истории, к которой столь критично относились славянофилы. Пожалуй, гимн этой истории петербургского периода и столь значимому для этого периода имперскому комплексу воспел в своем знаменитом сочинении именно Н. Данилевский. Какое уж там раскаяние, когда чтобы отстоять самостоятельность своей цивилизации, приходилось постоянно быть в конфронтации с Западом. Эту перманентную конфронтацию Н. Данилевский выводил из несходства культурно-исторических типов цивилизации. Она для него явилась следствием функционирования цивилизаций и взаимоотношений между ними. По Н. Данилевскому, получалось, что без институционализации имперского комплекса в этой конфронтации не выстоять. Тут уж не до раскаяния.
Но в той же самой ситуации Россия оказалась и перед первой мировой войной. «Весь петербургский период нашей истории – период внешнего величия, имперского чванства, – пишет Солженицын, – все дальше уводил русский дух от раскаяния. Так далеко, что мы сумели на век или более передержать немыслимое крепостное право – теперь уже большую часть своего народа, собственно наш народ содержа как рабов, не достойных звания человека. Так далеко, что и прорыв раскаяния мыслящего общества уже не мог вызвать умиротворения нравов, но окутал нас тучами нового ожесточения, ответными безжалостными ударами обрушился на нас же: невиданным террором и возвратом, через 70 лет, крепостного права еще худшего типа» [64].
Все это так. Поэтому горбачевский период нашей истории как очередная в этой истории волна оттепели стал исходной точкой раскаяния и, конечно, в общенациональных формах, как и мыслил Солженицын. В этом направлении работала журналистика, публицистика, средства массовой коммуникации, литература и, конечно, все искусство. Этот период раскаяния поднял фигуру Солженицына до необычайной высоты. Его слава, начинаясь с публикации «Одного дня Ивана Денисовича» и поддерживаясь выпусками самиздата, достигала самой высокой точки. Но с течением времени его имя начало отодвигаться в тень. Он стал классиком. Кажется, что и его идея о раскаянии сегодня тоже уже мало кому понятна. Значит, мы живем уже в другое время. Но, кажется, имеет место и новое отношение к славянофилам. Фигура А. Хомякова вытесняется фигурой Н. Данилевского, а значит, Россия вновь оказывается в конфронтации с Западом, что и имеет последствия определенного плана.
ПРИЛОЖЕНИЯ
[33] Цымбурский В.Л. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993-2000. М.: РОССПЭН, 2007. С. 475.
[34] Солженицын А.И. Указ. cоч. Т. 2. С. 348.
[35] Федотов Г.П. Певец империи и свободы // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. Т. 2. СПб.: Издательство «София», 1992. С. 141.
[36] Розанов В.В. Собрание сочинений. Т. 24. В чаду войны. Статьи и очерки 1916-1918. М-СПб.: Республика – Росток, 2008. С. 44.
[37] Солженицын А.И. Указ. cоч. Т. 1. С. 173.
[38] Там же. С. 542.
[39] Там же.
[40] Там же. Т. 3. С. 40.
[41] Шубарт В. Европа и душа Востока. М.: «Русская идея», 1997. С. 10.
[42] Солженицын А.И. Указ. cоч. Т. 3. С. 89.
[43] Там же. Т. 1. С. 436.
[44] Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков. С. 7.
[45] Там же. С. 45.
[46] Розанов В.В. Памяти А. С. Хомякова // Новый путь. 1904. № 6. С. 2.
[47] Хомяков А.С. Полное собрание сочинений: в 8 т. Т. IV. М.: Университетская типография, 1900. С. 33.
[48] Там же. С. 42.
[49] Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М.: Айрис-пресс, 2003. С. 380.
[50] Там же. С. 381.
[51] Хомяков А.С. Указ соч. С. 67.
[52] Там же. С. 69.
[53] Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков. С. 123.
[54] Солженицын А.И. Указ. cоч. Т. 1. С. 53.
[55] Там же. С. 60.
[56] Шубарт В. Указ. cоч. С. 11.
[57] Солженицын А.И. Указ. cоч. Т. 1. С. 350.
[58] Там же. С. 357.
[59] Хренов Н.А. Утопическое сознание в России рубежа ХIХ-ХХ веков: от модерна к хилиазму // Утопия и эсхатология в культуре русского модернизма. М: «ИНДРИК», 2016. С. 16.
[60] Розанов В.В. В чаду войны. С. 245.
[61] Там же. С. 245.
[62] Солженицын А.И. Указ. cоч. Т. 1. С. 59.
[63] Там же. С. 60.
[64] Там же.
© Хренов Н.А., 2018
Статья поступила в редакцию 15 июля 2017 г.
Хренов Николай Андреевич,
доктор философских наук, профессор,
Всероссийского государственного университета
кинематографии им. С.А. Герасимова.
email: nihrenov@mail.ru

ISSN 2311-3723
Учредитель:
ООО Издательство «Согласие»
Издатель:
Научная ассоциация
исследователей культуры
№ государственной
регистрации ЭЛ № ФС 77 – 56414 от 11.12.2013
Журнал индексируется:
Выходит 4 раза в год только в электронном виде
Номер готовили:
Главный редактор
А.Я. Флиер
Шеф-редактор
Т.В. Глазкова
Руководитель IT-центра
А.В. Лукьянов
Наш баннер:

Наш e-mail:
cultschool@gmail.com
НАШИ ПАРТНЁРЫ:
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Культуру культуры» обязательна.
© Научная ассоциация исследователей культуры, 2014-2024







