НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Научное рецензируемое периодическое электронное издание
Выходит с 2014 г.

Гипотезы:
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Э.А. Орлова. Антропологические основания научного познания
Дискуссии:
В ПОИСКЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (рубрика А.Я. Флиера)
А.В. Костина, А.Я. Флиер. Тернарная функциональная модель культуры (продолжение)
Н.А. Хренов. Русская культура рубежа XIX–XX вв.: гностический «ренессанс» в контексте символизма (продолжение)
В.М. Розин. Некоторые особенности современного искусства
В.И. Ионесов. Память вещи в образах и сюжетах культурной интроспекции
Аналитика:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
А.Я. Флиер. Социально-организационные функции культуры
М.И. Козьякова. Античный космос и его эволюция: ритуал, зрелище, развлечение
Н.А. Хренов. Спустя столетие: трагический опыт советской культуры (продолжение)
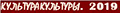

Н.А. Хренов
Синтез искусств как синтез культур: В. Кандинский и С. Эйзенштейн
(окончание)
Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена художественного авангарда в отечественной культуре первой половины ХХ века, происхождению и основным творческим и культуросозидательным принципам авангарда. Непосредственно эти проблемы анализируются на примере творчества В. Кандинского и С. Эйзенштейна с учетом особенностей культурного контекста их жизнедеятельности.
Ключевые слова. Искусство, авангард, новые смыслы, новые формы, традиция, новация.
8. Эстетика авангарда: творчество как космический акт
Острая потребность в теории В. Кандинским и С. Эйзенштейном во многом осознавалась еще и потому, что этого требовала эпоха как эпоха переломная и переходная. Это обстоятельство диктовало ее осознание на уровне мифологических и даже апокалиптических образов, что характерно, кстати, не только для массового сознания, но и сознания творческой элиты. Эти архетипические слои сознания переходной эпохи активизируются и в творчестве В. Кандинского и С. Эйзенштейна. Но переходность эпохи не означала лишь хаос и распад. Авангард – не декаданс. Он не смакует разложение как самоцель. Наоборот, разложение для него предпосылка созидания. Но созидание осуществляется уже на новой основе.
Эпоха, в которой творили авангардисты, воспринималась эпохой великой, эпохой значительной. А потому, как и С. Эйзенштейн, В. Кандинский был убежден, как всякая великая эпоха, его эпоха без теоретической рефлексии обойтись не может. Он убежден, что великие эпохи всегда имели свои учения и теории, которые были сами собой разумеющиеся в своей необходимости [55]. Так, получалось, что и ХХ век как великая эпоха, как новый Ренессанс, который этот век, собственно, как тогда казалось, и открывался, без теории обойтись не может. Так, С. Эйзенштейн прямо сопоставлял подъем в искусстве 1920-х годов с тем, что происходило в раннем Ренессансе. Но это сопоставление является еще внешним. Совпадение оказывается реальным и в том, что интерес сосредотачивался не вокруг чистой эстетики, а технологии искусства. Так, С. Эйзенштейн цитирует Ф. Супо, воспроизводящего атмосферу Флоренции начала ХV века. В описании этой ситуации он усматривает атмосферу 1920-х годов. «Неоднократно отмечалось, и с полным основанием, что флорентийские художники часто интересовались скорее научной стороной своих произведений, нежели чисто артистической. Целый ряд художников в своих произведениях искали принципов математических и физических, иногда метафизических. Приходится удивляться, до какой степени эстетические задачи меньше всего входили в круг забот художников» [56].
Цитируя эти строки, С. Эйзенштейн вопрошает: «Разве не так же характерны для двадцатых годов нашей эры та же экспериментальность и подобные же искания? Настойчивые поиски точного знания в методах и принципах искусства?» [57]. Именно это обстоятельство и порождало замысел С. Эйзенштейна, который он назвал «Метод», как и его интерес к конструкции. В самом деле, если авангард провозглашает культ созидания, то художник не может оставаться пассивным. Он имеет цель. Следовательно, необходимо выверить все способы, которые бы были эффективными для ее осуществления. В. Кандинский также убежден, что переживаемая его современниками эпоха – это эпоха перехода. Исчезают старые формы, связанные с элементарными смыслами, вкладываемыми древними в понятие мимесиса, и возникает новое сознание и новые формы. В этом пробуждении и продвижении к новому эону творец не может оставаться пассивным. Он творит, конечно, интуитивно, и, как утверждал еще И. Кант, не осознает, как он творит, но все же новая эпоха должны быть осознана. Поэтому он и повторяет все время мысль о необходимости серьезной теории и науки о творчестве. Значит, он все-таки допускает необходимость в том, что С. Эйзенштейн называет «методом», предполагающим, что художник творит не только бессознательно, но и сознательно.
Наличие метода предполагает осознанность творческого процесса, а, следовательно, и цель творчества, и средства достижения этой цели. Таким образом, В. Кандинский разделял позицию многих своих современников по поводу программируемости процессов творчества. Но применительно к В. Кандинскому нельзя утверждать, что он целиком и полностью разделял мнения своих современников о рационализме творчества и о необходимости метода. Все-таки, в суждениях художника сохраняется мысль и об иррационализме творческого процесса. У него непредсказуемость, спонтанность творчества связана не столько с собственно с искусством, сколько с более широкой, даже универсальной сферой, которая есть сфера культуры. Вот уж что В. Кандинский разделял в установках начала ХХ века, так это широту взгляда на творчество. Ведь творилась совершенно новая культура, а не только художественные ценности.
Прозревая развертывающийся в искусстве процесс, представители авангарда должны были осмыслять, в какой степени этот процесс является стихийным, независимым от индивидуальности творцов, а в какой степени он зависим от замыслов, намерений и проектов самих творцов, которые не только способны вмешиваться в этот процесс, но целиком и полностью призывались его контролировать и, собственно, его вызывать к жизни. Иначе говоря, в какой степени возможно самодвижение искусства и в какой степени оно направляется обществом и регламентируется государством, как это представлено еще Платоном. По этому поводу у представителей авангарда единая установка отсутствует. Так, С. Эйзенштейн склоняется к демиургической установке художника, способного и вообще призванного вмешиваться в процессы и направлять их. В этом случае художник призван не отражать и познавать, а строить, созидать, воздействовать, внедрять и вести за собой. В развертывающемся процессе он должен все осознавать и подчинять своей воле. Поэтому и возникает у С. Эйзенштейна понятие «метода». Не случайно главную свою теоретическую и аналитическую работу он называет именно «Метод».
В том государстве, в котором творил В. Кандинский, воля художника была ограничена. Тот проект строительства жизни, который был вызван к жизни уже символизмом и подхвачен авангардом, трансформировался в создание государства как произведения искусства. В этом процессе созидания государства художники вскоре оказались лишь «попутчиками». В лучшем случае они могли играть роль декораторов осуществляемых правящей элитой проектов. Идея авангарда сполна продемонстрирована проектом нового искусства и созданием метода искусства С. Эйзенштейном. Но ведь что означает, правящая элита заимствовала идею авангарда и, воспользовавшись ею, начала строительство новой жизни, в которой искусство было лишь частью, как бы заменяла собой творческую элиту. Политический авангард продолжил дело творческого авангарда, а точнее, художественного авангарда. Большевики тоже ощущали себя творцами. Только они творили совсем другое искусство. В соответствии с Платоном и Буркхардтом, они созидали новое государство, подразумевая под ним произведение искусства в платоновском смысле.
Но подхватили ли они проект авангарда на самом деле? Если и подхватили, то, подхватив, они не заметили в нем самого главного-космического универсализма творчества. Именно космического. Употребляя это понятие, мы под ним не подразумеваем метафорический смысл. В начале ХХ века интерес к этой проблематике пробужден начавшимся отторжением от позитивизма. Реабилитировались те уровни познания, которые научными парадигмами отвергались. Например, Н. Бердяев находил рациональное зерно в идеях Я. Беме, в мистических концепциях, согласно которым в человеке отложились все наслоения мира, в том числе, и космические. По его мнению, природа человека связана с космосом. «Что в человеке скрыты тайные, оккультные космические силы, неведомые официальной науке и будничному, дневному сознанию человека, – пишет Н. Бердяев, – в этом почти невозможно уже сомневаться» [58].
Эту точку зрения В. Кандинский разделял. Не случаен его интерес к Р. Штайнеру и Е. Блаватской, вообще, к теософии, в которой в начале ХХ века пытались отыскать аргументы против позитивизма. В. Кандинский же из учения Е. Блаватской пытался извлечь те резервы внутреннего, смысл которого должен новую культуру определять. Теософское движение он оценивает как одно из величайших духовных движений начала ХХ века [59]. Это не случайно. В этом проявилась его реакция на происходящее на Западе, на то оскудение в духовном мире, которое развертывалось на Западе. Духовное начало уступило внешним силам, что привело к осознанию тупика. Это обстоятельство обязывает Запад ассимилировать на Востоке то, что способно культивировать духовное начало.
Констатируя это, например, К. Юнг проводит параллель между Древним Римом и Западом ХХ века. И тогда, и в ХХ веке спасение ожидают от Востока. «После завоевания Малой Азии, - пишет К. Юнг, – Рим становится азиатской державой; Европа была заражена Азией и остается таковой до сих пор» [60]. Тяготение к Востоку позволяет противостоять нарастанию внешнего и культивировать внутреннее и духовное. «Подобно человеку греко-римского мира, отбрасывавшему своих умерших богов и обращавшемуся к мистериям, мы под давлением нашего инстинкта поворачиваемся к иному, к восточной теософии и магии. Современный человек идет к внутреннему, к созерцанию темных оснований души» [61]. Многие представители авангарда не только бессознательно вносили в творчество космический смысл. Они его осознавали и даже о нем высказывались. Так, касаясь имперсональности творческого процесса, В. Кандинский утверждал, что творчество – это творчество не только художника, но прежде всего Духа.
В творческом процессе В. Кандинский уравновешивает логическое, рациональное, с одной стороны, и интуитивное, с другой. Он пишет: «Рождение произведения носит космический характер. Зачинателем произведения, следовательно, является Дух. Таким образом, в абстракции произведение существует и до своего воплощения, делающего его доступным человеческим чувствам» [62]. А вот еще одно высказывание художника, касающееся центральной проблемы в его теории – синтеза и той культуры, в которой этот синтез может быть осуществлен. «Драма, в какой мы участвуем уже столько времени, – пишет он, – разыгрывается между агонизирующим материализмом и набирающим силу синтезом, который ищет нового открытия забытых связей между отдельными феноменами, этими явлениями и великими принципами, приводит нас в итоге к чувству космического: «музыке сфер» [63]. Да, собственно, смысл этого космизма в творчестве представляющих новое искусство художников был осознан и сформулирован Н. Бердяевым. Но о нем размышляли и сами художники, в том числе, и В. Кандинский. Когда же космический смысл творчества оказался утраченным, художник, оказавшись в новом государстве, потерял свободу.
9. Теоретические взгляды В. Кандинского:
шопенгауэровский вариант эстетики авангарда
От необходимости в теории для осмысления явных и латентных уровней развертывающегося процесса в художественном мире пора перейти к образу художника, каким он предстает в авангарде. Конечно, С. Эйзенштейн предстает в образе демиурга. Он в этом, несомненно, похож на В. Маяковского. Однако, несмотря на совпадения и общие установки, относительно образа художника В. Кандинский придерживался других взглядов. Он в меньшей степени отходит от символизма и придерживается шопенгауэровского взгляда на происходящее, которое, как известно, присуще философствующим символистам. Если у С. Эйзенштейна, для которого искусство – не подражание, а построение, на первое место выходит демиургическая воля художника, то у В. Кандинского главное – это сбрасывание с реальности того, что А. Шопенгауэр называет «покрывалом Майи». Этот феномен возникает именно в результате действия этой воли, которая на пути к подлинной реальности становится препятствием. Но препятствием, в том числе, и к подлинному творчеству. Ведь смысл творчества заключается в наиболее полном выявлении внутреннего смысла, в выявлении эйдоса, чему это самое «покрывало Майи» и препятствует.
Тут улавливается уже не только шопенгауэровское, но более раннее, платоновское понимание творчества. Вот почему эстетика авангарда – свидетельство не только аристотелевской, но и платоновской и в большей степени платоновской традиции. Для В. Кандинского реальностью была не презираемая Платоном чувственная предметность, а праматерия, в глубины которой он вглядывается. Для того, чтобы это тяготение В. Кандинского к праматерии объяснить, необходима феноменологическая методология, способная соотнести его полотна с концептом не доступного непосредственной чувственности эйдоса. Истинная реальность для художника открывается тогда, когда наступает паралич воли. Для В. Кандинского шопенгауэровское «покрывало Майи» – это и есть аристотелевский мимесис, который является барьером для выявления эйдоса. Жизнеподобие в искусстве может иметь место, но при этом сущность ускользает. Для художника главное – это именно сущность, эйдетическая сущность, т.е. то внутреннее содержание, которое и является ядром, даже самоценным.
Добиваясь жизнеподобия, художник может утратить внутренний смысл. Мимесис способен помешать прорыву к внутренним смыслам. Следовательно, в иных случаях можно и нужно жертвовать внешним, телесным, чувственным. Чтобы прорваться к внутренним смыслам, нужно, вслед за Шопенгауэром, сбросить с реальности «покрывало Майи». Применительно к В. Кандинскому это означает отказаться от пластического выражения внутреннего смысла, т.е. видимого, чувственного, телесного начала. Так мы выходим в пространство беспредметности. Для В. Кандинского, как и для всего авангарда, это пространство было пространством культуры, но только той, которая возникает и даже больше, пространством космоса, без которого возникающая культура существовать не может. Но если это уже пространство не только искусства, а культуры, природы и космоса, то, пожалуй, можно утверждать, что при таком понимании искусства художник утрачивает тот статус, который ему до сих пор приписывают, а историю искусства и в самом деле можно постигать «без имен».
В новой культуре художник утрачивает то качество индивидуальности творчества, которое к моменту появления авангарда оказалось гипертрофированным. В этом космическом процессе возникает незапрограммированное, стихийное и, следовательно, безличное начало. Таким образом, вторжение безличного в творческий процесс, кажется, и в самом деле подтверждает мысль М. Ямпольского о кризисе субъекта и утверждении в искусстве позиции наблюдателя. Но только в авангарде этой реабилитации художника-наблюдателя все-таки не происходит. Вспоминая тезис М. Ямпольского, мы не можем пройти мимо в связи со стихийностью и безличностью творчества И. Канта, с которого по М. Ямпольскому начинается кризис субъекта.
Пожалуй, Кант и в самом деле ощущал это стихийное и безличное начало, когда утверждал, что сам художник не осознает, как он творит и не может передать другим секреты творчества, которые С. Эйзенштейн и сводит к понятию «метода». Так, пытаясь объяснить, как постепенно он подходил к открытию значимости беспредметных форм, В. Кандинский признается, что эти формы возникали сами по себе бессознательно и совершенно естественно без вмешательства самого художника, без формулирования цели творчества. Он подчеркивает, что сам художник никогда не в состоянии полностью постичь и узнать свою собственную цель [64]. В данном случае творчество воспринимается бергсоновским elan vital, т.е. проявлением безличного, имперсонального Духа.
Можно утверждать, что В. Кандинский, как С. Эйзенштейн, тоже предчувствует, как и новые романтики-символисты возникновение новой культуры. Видимо, это предчувствие было всеобщим, и оно присуще не только двум художникам – В. Кандинскому и С. Эйзенштейну. Но, однако же, нельзя не отметить, что понимание движения к этой культуре и степень активности в этом движении каждого художника у В. Кандинского и С. Эйзенштейна совершенно различны. С. Эйзенштейн демонстрирует тип художника «фаустовского» типа. Он одержим необходимостью предельной активности в творчестве. Он ощущает себя борцом, способным ускорить процесс и приблизить реальность новой культуры. Он отдает отчет в том, что от его активности зависит рождение и становление новой культуры.
Иное дело – В. Кандинский, личность которого в его самоанализе отступает на задний план. Он не стремится приблизить реальность рождающейся культуры, вторгаясь в космические процессы обновления мира. Этот процесс становления Духа независим от человека и самоценен. Субъект может лишь пытаться осознать эти процессы движения Духа и соотнести с ними свою собственную деятельность, но ни в коем случае не подталкивать эти процессы, не воздействовать на них. Это, конечно, установка не фаустовского или прометеевского гения, а скорее человека Востока. Пытаясь интерпретировать опыт авангарда, мы за тип художника – авангардиста принимаем лишь фаустовский тип. Но наследие В. Кандинского свидетельствует, что в авангарде имела место ментальность другого рода, что уже в литературе констатировалось. Так, исследователь беспредметного искусства И. Вакар констатирует разрыв авангарда с традицией и тяготение к доперсональному [65]. Удивительно, что эта ментальность улавливается в творчестве В. Кандинского, ассимилировавшего, кажется, исключительно западный, т.е. индивидуалистический вариант. Ведь он не только вдохновляется, например, немецким искусством, но жил и работал в Германии, что на могло не отложить печать на его творчество. Впрочем, к началу ХХ века новое открытие Востока, начало которому положил тот же Шопенгауэр, уже, собственно, было в апогее.
10. Тип творчества как тип культуры:
восточный вариант творчества у В. Кандинского
Кант утверждал, что сам художник логику творчества не осознает, поскольку он является частью природы, а значит, он обладает безграничной свободой. Такое понимание творчества подвело его к открытию особого, уже иррелигиозного смысла творчества (на то Кант и представляет мироощущение модерна), творчества как игры, что формалисты перенесут на стихию творчества. Такое понимание творчества уже не предполагает его объяснение как контакта с богом, как сакрального акта, но зато оно становится удобным в секулярном мире, когда творцом провозглашается уже человек, как, собственно, и мыслит Н. Бердяев. Только вот ощутив свободу творчества в формах игры, когда утрачивается его сакральный смысл, Кант все-таки так и не смог гарантировать художнику полной свободы. Он эту творческую стихию гения все-таки ограничил. Чем? Неужели вернул к Платону и вспомнил о государстве как произведении искусства? Или неужели вернул в средние века и напомнил о великом инквизиторе?
Нет, конечно, ограничение у Канта связано исключительно с художественным вкусом. У Канта вкус имеет качество всеобщности. А значит, Кант побоялся оставить гения в контакте исключительно с природой. Качество всеобщности означает для Канта не природу, а культуру. Ведь вкус для него – это то, что возникает в процессе совместной, т.е. общественной, коллективной жизни. Собственно, и все представители авангарда, какую бы свободу творчества они не провозглашали, кажется, исходят именно из этого кантовского принципа. Все они рефлексируют о культуре. Они жаждут творчества культуры, созидания новой культуры, а не только творения новых художественных и эстетических ценностей. Вот только культура – то развивается по особой логике, а вмешательство в нее гения хотя и возможно, но ограничено. Это-то и ощущал В. Кандинский.
Такое представление о художнике предполагает и иную интерпретацию художественного процесса. Этот процесс уже не является полностью осознаваемым, а главное, индивидуальным. Не во власти художника этот процесс осознать целиком и полностью. Он творит не сознательно, а интуитивно. То, что творит не художник, а Дух, а художник лишь улавливает этот elan vital Духа, В. Кандинский и подвергает рефлексии. В ней улавливается и шопенгауэровское, и восточное начало. Так, имея в виду то, что, несмотря на тяготение к беспредметности, предметность из его полотен исчезает не полностью, художник пишет так: «И все же предметы не хотели, и не должны были, полностью исчезнуть из моих картин. Во-первых, невозможно искусственно достичь зрелости к какому-то установленному времени. И нет ничего более вредоносного и греховного, чем добиваться новых форм силой. Внутреннее побуждение, оно же творческий дух, неотвратимо создает в нужное время необходимую ему форму. Можно философствовать относительно формы, ее можно анализировать. Однако все это должно входить в произведение естественным путем и, более того, на той стадии законченности, которая соответствует развитию творящего духа. Итак, я должен был терпеливо ждать часа, который бы дал моей руке возможность создать абстрактную форму» [66].
После такого признания о том, что творит не художник, что его кистью руководит Дух, как можно утверждать, что история искусства – вовсе не история Духа, что она населена исключительно индивидуальностями, т.е. именами. В процессе творчества Духа художнику как субъекту ничего невозможно изменить. Этот безличный ритм творчества невозможно ускорить или продлить. Все должно происходить само собой. В данном случае субъективная воля художника может быть лишь помехой и барьером для постижения глубинной внутренней сути. Так что все получается по Шопенгауэру. Однако это переживание протекающих в душе художника безличных процессов творчества является не только радостью, но и трагедией, особенно если речь идет о европейском художнике с присущим ему гипертрофированным чувством индивидуализма.
Вот как, например, этот трагизм как следствие безличности передает В. Кандинский, фиксируя свои переживания в процессе работы над полотном. В них ощущается, что творческий процесс не только не предполагает субъективной, индивидуальной, но и вообще человеческой активности. «Духовно-логическим следствием этих переживаний было побуждение сделать внешний элемент формы даже более лаконичным и облечь содержание в более холодные формы. По моему ощущению, тогда мною совершенно не сознававшемуся, наивысшая трагедия скрывает себя под наибольшей холодностью. Таким образом, я увидел, что наибольшая холодность и есть наивысшая трагедия. Это та космическая трагедия, в которой человеческий элемент представляет всего лишь один из звуков, только один из множества голосов, а проще перенести в сферу, достигающую божественного начала. Подобные выражения следует использовать осторожно и не играть с ними. Здесь я употребляю их сознательно и чувствую себя вправе сделать это, поскольку в данный момент речь идет не о моих картинах, но о целом роде искусства, который еще не был связан ни с чьей личностью и который в своей абстрактной сущности все еще ждет воплощения» [67]. В данном случае ощущаемые художником безличные и трагические моменты творческого процесса не могут не увести его как европейского художника в сторону Востока, к контакту с восточными культурами, который, конечно, в начале ХХ века был очевиден и весьма распространен [68].
Но со стороны русских художников это не было лишь скоропреходящей модой. С помощью Востока происходило новое открытие и осознание собственной коллективной идентичности, которая в последние столетия видоизменялась под воздействием вестернизации. Повсеместно ощущаемый уже в ХIХ веке кризис Запада ставил русского художника в новую ситуацию. Видоизменения идентичности русского человека развертывались с помощью активизации в его ментальности восточных напластований. Это и начинало ощущать русское искусство начала ХХ века. Ведь в этой ментальности имел место момент безличности, что фаустовская ментальность и исключала, и отторгала. И этот процесс, как показал К. Ясперс, начался еще в античности.
Этот нюанс отечественной ментальности превосходно улавливал С. Франк. Дело не только в том, что в русском человеке индивидуализм западного типа не получил полного развития в силу того, что здесь «я» не существует без «мы», т.е. без повышенной значимости коллективной стихии, а в том, что здесь индивидуализм, тоже присутствующий в русской ментальности, уравновешивается универсализмом [69]. В 1910 году В. Кандинский посетил в Мюнхене выставку персидских миниатюр, что оживило, как он признается, его воспоминания о первых впечатлениях, даже потрясениях от этих миниатюр. «Простота – почти до варварства. Сложность почти головокружительная. Изысканность самого утонченного, чувственно замечтавшегося народа. Серьезность, строгость, подчас суровость рисунка, как на древних иконах» [70]. С одной стороны, как он выражается, это «примитивное раскрашивание», а, с другой, вознесение на вершины живописи. Персидские миниатюры заставили его совершить переоценку того, что принес с собой художественный декаданс рубежа ХIХ-ХХ веков.
Нечто аналогичное потрясению В. Кандинского от персидских миниатюр испытал С. Эйзенштейн от посещения представления китайского театра Кабуки, в приемах которого режиссер уловил те отношения между звуком и изображением, которые оказались столь актуальными в период перехода от немого кино к звуковому. Но дело не в ситуативности этого восторга перед приемами Кабуки. Его заинтересовало то же, что и В. Кандинского в персидских миниатюрах, а именно, уход от предметной изобразительности в ее поверхностном выражении к условности и обобщенности. Но ведь эта доминанта условности означает перевес внутреннего над внешним. А это для В. Кандинского и является свидетельством совершающегося в искусстве духовного переворота. «Проблема образности произведения – одна из центральных проблем нашей созидающейся новой практической эстетики, – пишет С. Эйзенштейн. – Уже овладевая характером и образом человека, поступками и образом его действий, наше искусство, однако, во многом еще задерживается лишь на грани изобразительной. Изображающей. Но этим художественность произведения не устанавливается и не исчерпывается» [71].
И это утверждает художник, постигающий природу самого предметного вида искусства. Идеальное разрешение между изобразительностью и обобщением, условностью С. Эйзенштейн видит в эстетике Кабуки. «И здесь вступает своей интереснейшей стороной культура Китая и частное ее проявление – китайский театр. Она как бы антипод чистому изображению» [72]. Открыв норму тех форм, в которых нуждается новое искусство и усматривая эту норму в Китае, С. Эйзенштейн пишет: «Единство конкретно-изобразительного и образно-обобщенного в китайском искусстве нарушено в сторону многозначности обобщения в ущерб конкретно-предметному. И это нарушение как бы полярно противостоит тому нарушению этого единства в сторону гипертрофии изобразительной, на котором во многом еще стоит наше искусство, как всякое великое искусство будущего в начальные периоды своего самостоятельного становления. Этот тип развития - такой же первый шаг в реализм, как то, что мы видим в китайском искусстве, есть как бы шаг или несколько шагов за пределы реализма» [73].
Это открытие Востока, совпавшее с движением авангарда в сторону тех форм, которые характерны для восточных культур, позволяет улавливать и интернациональный, и планетарный пафос всей этой эстетики, которую В. Кандинский и С. Эйзенштейн представляют. Но этот интернациональный и планетарный пафос авангарда позволяет проблематику синтеза перевести из искусствоведческой в культурологическую плоскость, т.е. рассматривать ее уже на уровне соприкосновения культур и их синтеза, что, как мы помним, И. Грабарь относил к одной из центральных проблем истории культуры.
Эта мысль звучит в следующем высказывании В. Кандинского. «Нельзя сомневаться в том, что мы, – пишет он, – в преддверии того времени, когда к Западу и Востоку будет прибавлено прилагательные «дальний», когда, развиваясь далее, Запад и Восток сойдутся в одном пункте и международное единение художественных сил опояшет земной шар и достигнет высоты общечеловеческого единения» [74]. Именно воздействие Востока стимулирует духовное возрождение. Упрекая современников в увлечении материальным, а, следовательно, и внешним, К. Юнг пишет: «Но в наш век американизации мы по-прежнему далеки от всего этого (Юнг имеет в виду то, что требования духа пока еще не являются императивными – Н.Х.); мне кажется, что мы едва ступили на порог новой эпохи духа» [75]. К этому выводу мог бы присоединиться и В. Кандинский. Но если это уже происходит, то не без воздействия Востока, в том числе.
В этом смысле произойдет и открытие Западом русского искусства, которое до сих пор казалось ему чуждым, ведь Россия всегда воспринималась на Западе Востоком [76]. Собственно, эти сдвиги в отношениях к русскому искусству и вообще к России, как утверждает В. Кандинский, уже происходит, особенно в Германии, что художник мог наблюдать. «В последние перед войной годы, – пишет он – ко мне все чаще стали приходить в Мюнхене эти прежде невиданные мною представители молодой неофициальной Германии. Они проявляли не только живой внутренний интерес к сущности русской жизни, но и определенную веру в «спасение с Востока». Мы ясно понимали друг друга и ярко чувствовали, что мы живем в одной и той же духовной сфере» [77]. Но дело, однако, объясняется вовсе не национальными особенностями русского искусства как такового, тем признаком безличности, отсутствием индивидуализма, что содержится в культурах Востока и что в какой-то степени продолжает сохраняться и в русской культуре. Может быть, это обстоятельство как раз и позволяет глубже ощутить смысл формулы Г. Вельфлина, в соответствии с которым история искусства является историей искусства без имен. Таким образом, некоторые признания и суждения В. Кандинского подтверждают формулу Г. Вельфлина.
11. Творчество как творчество Духа:
теория В. Кандинского как вариант феноменологии Гегеля
В. Кандинский лишь мыслил возможность создания фундаментальной рефлексии или теории об искусстве, что, конечно, объясняется переходной эпохой и сменой в начале ХХ века эстетических ориентаций. Однако сам художник все-таки исходил из теоретической, даже философской концепции, более того, модернистской философии. В данном случае под модернистской философией мы подразумеваем тот смысл, который вкладывает в философию Просвещения Ю. Хабермас. До сих пор этот аспект теоретических суждений В. Кандинского остается необъясненным. И коль скоро у нас речь идет о теории, попробуем и этот аспект осмыслить. В связи с этим придется снова вспомнить Г. Вельфлина, с именем которого, как известно, и связана формула «история искусства без имен».
Выясняется, что истоком такой формулировки, в авторстве которой сам Г. Вельфлин не сомневался, он все же не является. По этому поводу он высказывался так: «Специалистов больше всего взволновал принцип «история искусства без имен». Не знаю, где я подхватил это выражение, но в ту пору оно висело в воздухе» [78]. Как отметила научный сотрудник Лувра Ж. Базен, истоки этой формулы связаны с философией и, в частности, с Гегелем [79]. Вообще-то, до того, как добраться до исходной точки возникновения этой вельфлиновской формулы, т.е. гегелевской, Ж. Базен констатирует, что истоком рождения принципа «история искусства без имен» явился тезис О. Конта «история без имен великих людей и даже без имен народов» [80]. Но это социологическая интерпретация доромантического варианта вельфлиновской формулы. На самом деле, первичным истоком формулы явилась феноменология Духа Гегеля [81].
Здесь мы сталкиваемся с проблемой, а точнее, с конфликтом интерпретации эстетики авангарда. Как мы уже показали, в суждениях В. Кандинского, касающихся понимания и творчества, и образа творца, и творческого акта, улавливается скорее западное, чем восточное начало. Сам художник не склонен навязывать свое «я» творению. Творит Дух, а не человек. Человек, т.е. гений способен свой порыв к творчеству лишь соотносить с логикой движения Духа. Эта деперсонализация творчества, не предполагающего активности «я» художника, отчасти воспроизводит восточный безличный комплекс, отчасти соотносит поиски В. Кандинского с неоплатонизмом, активизация которого, несомненно, характерна для рубежа ХIХ-ХХ веков, что, видимо, проявляется и в творчестве, и в рефлексии В. Кандинского. В данном случае между восточным комплексом и неоплатонизмом расхождения нет. Нет потому, что, как утверждает Н. Бердяев, в неоплатонизме тоже угадывается дух Востока, ведь в эллинистический период античности, когда появляется неоплатонизм, Восток необычайно активизируется, что, конечно, не прошло мимо испытавшего его влияния Плотина. Это влияние сказалось в отрицании индивидуального начала, что для истории Запада, развивающегося на христианской основе, нехарактерно. «Мистика Индии вся безличная, не видит личности человеческой в ее метафизической самобытности и прибыльности для жизни самого Бога, – пишет Н. Бердяев, – она все еще до откровения Человека в Боге, откровения лика через Сына Божьего» [82].
Однако ведь мы пытаемся понять рефлексию В. Кандинского не с помощью Плотина, а с помощью одного из лидеров философии модерна – Гегеля, что, казалось бы, разрушает наше намерение, поскольку модерн ассоциируется и с разумом, и с утверждением «я» личности и, в конце концов, с Западом. Может быть, наше желание понять рефлексию В. Кандинского сквозь призму феноменологии Гегеля не имеет никакого основания? Тем не менее, мы убеждены, что в данном случае без Гегеля не обойтись. Удивительно, но ни в одной из своих работ В. Кандинский Гегеля не цитирует и на него не ссылается. Но так получается, что в своей теории он предстает философом. Во всех его статьях и теоретических высказываниях лейтмотивом звучит основная мысль гегелевской эстетики, связанная с тем, что в этом случае единственным творцом предстает вовсе не художник, не Бог, как считалось в Средние века, и даже не народ, которого художник представляет, что было бы близко В. Кандинскому как последнему из романтиков (а близость его романтизму констатируют исследователи его творчества), а Дух. Так, собственно, Гегелем формулируется главный концепт всей его философии искусства.
Гегелем продемонстрирован и принцип историзма в творчестве Духа. Как известно, всю историю творчества, а, следовательно, взаимоотношений между внутренним и внешним в творчестве Гегель делил на несколько фаз. Для него каждая фаза демонстрировала специфический вариант взаимоотношений между видимым и невидимым, внутренним и внешним, духовным и материальным. Собственно, смысл перехода, который в начале ХХ века развертывался, В Кандинский тоже осмыслял в соответствии с этим подходом к творчеству как творчеству, совершаемому Духом. Он считал, что ХХ век – это эпоха возникновения принципиально новой культуры, в которой взаимоотношения между внутренним и внешним радикально изменяются. Внешнее, т.е. видимое, чувственное, предметное, телесное отступает на задний план, оказываясь второстепенным, менее значимым, а духовное выступает на первый план. Отсюда и обозначение возникающей эпохи как эпохи великой духовности [83].
Было ли это заключение В. Кандинского его собственным заключением? Видимо, в начале ХХ века оно носилось в воздухе, что, собственно, констатирует и Г. Вельфлин. Ведь писал же, например, С. Булгаков об этой погруженности человека этой эпохи во внешние стихии, под воздействием которых он утрачивал смысл внутренней жизни. «В современном человечестве, - писал он, – не только у нас, но и на Западе произошел какой-то выход из себя вовне, упразднение внутреннего человека, преобладание в жизни личности внешних впечатлений и внешних событий, главным образом политических и социальных. Отсюда такая потребность суеты, внешних впечатлений. Современный человек стремится жить, как бы не бывая дома наедине с собою: сознание заполнено, но достаточно приостановиться этому калейдоскопу внешних впечатлений, и можно видеть, как бедна или пуста его жизнь собственным содержанием» [84].
Сказанное религиозным философом В. Кандинский почти повторяет. «Наибольшее накопление этих (материальных – Н.Х.) благ, – пишет он, – для себя стало единственной целью жизни для большинства людей. Наибольшее накопление этих благ с наименьшей затратой энергии (принцип экономической науки) стало идеалом человеческой деятельности, жизни… А снаружи чем дальше, тем больше забывалась, терялась внутренняя ценность жизни. Оставалась явной на поверхности внешняя. И потому как только человек терял эту внешнюю ценность, так немедленно он оказывался перед пустым местом» [85]. Как вытекает из данного суждения, для В. Кандинского чрезвычайную значимость приобретает оппозиция внутреннего и внешнего. Смысл его экспериментов он видит в выходе за пределы внешнего, телесного и материального. Но внутреннее для него является беспредметным.
Из этих суждений как религиозного философа, так и художника-авангардиста как раз вытекает смысл той самой последней фазы становления Духа, которую Гегель называет романтической фазой. Именно на этой фазе Дух разочаровывается во всех попытках выразить себя через внешнее. Возникает потребность уйти от предметности, преодолеть ее. Так возникает новая ситуация, которая, в общем-то, Гегелем намечена. Таким образом, процессы творчества, как они представляются В. Кандинскому, могут быть интерпретированы именно в духе Гегеля.
Мы уже отмечали, что у В. Кандинского передача творческого импульса от личности художника к безличному Духу объясняется обращением его времени к учению Плотина. Именно с помощью Плотина и можно объяснить жертвование индивидуальной стихией творчества, что и привилось в рефлексии В. Кандинского. Ну, а как же тогда быть с Гегелем? Но ведь для Гегеля творит тоже дух, а не человек. Для Гегеля, как и для восточных мыслителей, на первом плане оказывается стихия безличности, в чем, собственно, его и упрекают. В индивидуалистическую эпоху Гегель демонстрировал надындивидуальную стихию истории. Так, может быть, Гегель, а не только Шопенгауэр уже испытал на себе влияние Востока? Уж не проявилось ли в его надындивидуальной логике истории тоже восточное начало? Если бы удалось это доказать, наша гипотеза о гегелевской основе рефлексии В. Кандинского не повисла бы в воздухе.
Для того, чтобы снять этот конфликт интерпретаций, мы обращаемся к Н. Бердяеву, уловившему эту связь феноменологии Гегеля с Востоком, но не развившему свою мысль о том, что философию Гегеля и в самом деле можно осмыслять в соответствии с восточной традицией, что его имперсонализм связан с этой традицией. Касаясь имперсонализма Плотина, Н. Бердяев утверждает, что немецкий мистик Экхардт близок и Плотину, с одной стороны, и восточной мистике, усвоенной Плотином, с другой. Вот скупая, но чрезвычайно любопытная в этом смысле фраза Н. Бердяева, проливающая свет на имперсонализм Гегеля, откуда вышла знаменитая формула Г. Вельфлина. «Все своеобразие германской культуры предопределено Экхардтом, – пишет он. – В нем был уже и Гегель» [86]. Это суждение помогает в новациях В. Кандинского уловить одновременно воздействие и Востока, и Плотина, и Экхардта, и Гегеля. Такое совмещение воздействия разных культур и философских идей лишь свидетельствует о том, каким грандиозным интертекстом явилась культура начала ХХ века, готовая перейти на новый уровень развития.
Но, разрешив связанное с интерпретацией творческого процесса противоречие, мы сталкиваемся с еще одной проблемой. Из понимания творчества Гегелем как творчества Духа, казалось бы, невозможно вывести эксперименты авангарда. Ведь рефлексия Гегеля выстраивается на основе аристотелевской традиции, т.е. мимесиса. Судя по всему, рефлексия Гегеля, в которой центральными понятиями оказались понятия «внутреннее» и «внешнее», не отклонялась от элементарного смысла, обычно вкладываемого в то, что древние подразумевали под мимесисом. Но вчитаемся внимательно в суждения Гегеля. Согласно Гегелю, на романтической фазе творящий Дух больше уже не утверждает себя рефлексией по поводу предметности, без которой он до сих пор не мог выразить свои внутренние смыслы. Он уже убежден, что является самоценным и для выражения внутренних смыслов телесные формы ему не всегда нужны.
Сближаясь в своей рефлексии с концептом Гегеля, В. Кандинский обосновывает культ в новом искусстве беспредметности, чего, разумеется, Гегель не касался. Поэтому если иметь в виду установки художественного авангарда и его эстетику, ориентированную на беспредметность, и если пытаться эту новую эстетику рассматривать в духе классической западной эстетики, то эта последняя нуждается в творческой интерпретации. Ведь по Гегелю романтическая фаза – это вся длительная история западного, а, следовательно, и христианского искусства, включая и Средневековье. Гегель ощущает личностной потенциал христианства и при определении романтической фазы в истории исходит именно из него. Но ведь в пределах самой этой фазы, растянувшейся на столетие, видимо, тоже можно выделить эпохи или, в соответствии с Г. Вельфлином, системы видения. На романтической фазе личностной потенциал достигает таких форм развития, что Дух начинает тяготиться пластическими, телесными формами выражения. История искусства начинает двигаться в сторону от аполлоновских образов и культивировать дух Диониса, т.е. в соответствии с Ф. Ницше, дух музыки. Ф. Ницше первому показалось, что возникает заря новой культуры, с точки зрения которой следует переоценить все существующие ценности.
К началу ХХ века музыка заметно становится определяющим видом в системе искусства. Казалось, идея Р. Вагнера о синтезе искусств и в самом деле осуществляется на основе музыки. Музыкальность становится универсальным признаком, о чем свидетельствовали остальные виды искусства, на которых ощущается печать музыкальности. Собственно, на эту тему размышляет и В. Кандинский. Музыкальная стихия проникает и в живопись. Композиции В. Кандинского выстраиваются в соответствии с принципом музыки. Может быть, смысл гегелевской эстетики и, в частности, сущность романтической фазы и в самом деле нельзя выводить исключительно из религиозных установок. Ведь свобода Духа от чувственного и телесного, как и вообще, от мимесиса, от изобразительности, по сути, свое истинное проявление получает лишь в беспредметных формах. Но пластическая или изобразительная беспредметность и есть трансформация живописи в музыку. По сути дела, лишь с возникновением авангарда по-настоящему прочитывается и тот смысл, который Гегель снабдил свой концепт творящего Духа.
Ведь беспредметность – это и есть то состояние Духа, когда он разочаровывается в видимом и телесном, предметном и чувственном, демонстрируя убежденность в своей самоценности. Поэтому можно сказать так: об авангарде Гегель, конечно, писать не мог по причине его отсутствия, но суть авангарда, его возможность Гегель, представляющий мировосприятие модерна, он уже ощутил, аргументируя появление романтической фазы в истории Духа. Именно эта мысль Гегеля и определяет понимание философом последней фазы истории творчества как истории творящего Духа, т.е. фазы романтической.
Здесь самое время процитировать другого представителя авангарда – К. Малевича, которому эту мысль удалось сформулировать удачнее. Реагируя на критику беспредметного искусства, он парировал, обращаясь опять аки к гегелевской терминологии. «Обвинители горько ошибаются, – пишет он, – разложение предметного мира еще не значит разложение духа, наоборот, оно вскрыло его действительно. Оно устанавливает дух в своих правах и возводит его в беспредметную истину новой действительности жизни. Когда дух свободного действия пытается выйти из границ предмета, оставляет форму предметной практической культуры, выявляя беспредметность как освобожденное ничто от катастрофы форм, видов, сознания, культуры, совершенства законов и т.д.» [87].
Так что же все-таки открывает авангард в лице таких художников, как В. Кандинский и С. Эйзенштейн? Является ли ХХ век той эпохой, в которой, наконец-то, по-настоящему становится понятной мысль Гегеля о сущности романтической фазы, т.е. о том, что, наконец-то, Дух утверждается в своей самоценности, приходя к убеждению в том, что предметность не только помогает выявлению внутренних смыслов, но и является барьером на пути их выражения? Или же опыт авангарда уже позволяет подойти к переоценке концепции Гегеля, к выходу из предложенной философом схемы? Иначе говоря, может быть, мировосприятие модерна сыграло с философом шутку, включая его мысль в ту матрицу, которая пришла в мир и окончательно утвердилась в эпоху модерна. Но в ХХ веке эпоха модерна закончилась.
Вторжение массы в историю и возникновение на этой основе катастрофы в виде революций, террора и мировых войн продемонстрировали вовсе не реализацию разумных проектов, а возвращение в варварство, что в истории еще в ХVIII веке допускал Д. Вико. Но если философская матрица модерна оказалась разрушенной, то, может быть, и на концепцию философии искусства в ее гегелевском варианте тоже можно посмотреть критически? Или просто ее отвергнуть. Может быть, опыт авангарда – это не самое полное и не самое точное выражение романтической фазы, а не предусмотренная и не учтенная Гегелем принципиально новая ситуация. Иначе говоря, в ХХ веке мир оказался в ситуации, которую с помощью философии модерна осмыслить невозможно и следует к ее объяснению подбирать какие - то особые ключи.
Можно ли в этом смысле опираться на опыт наук - гуманитарных и естественных? Ведь уповали же представители авангарда на науку. Так, может быть, и в самом деле обратиться к науке, например, к физике. Ведь не случайно и В. Кандинский вспоминает о науке, когда пытается объяснить свои беспредметные композиции, которые хотя и не воссоздавали катастрофы ХХ века в духе мимесиса, как это, например, происходит в кино, но все же позволяли улавливать в них апокалиптический смысл. Употребляет же сам В. Кандинский применительно к своей шестой композиции, в которой отсутствует и сюжет, и предметность вообще, понятие «потопа» [88]. Так, он подробно описал, как в этой композиции отходил от предметного изображения идеи потопа и переводил ее на уровень абстракции [89].
Хотя невозможно утверждать, что В. Кандинскому чужда идея создания метода, тем не менее, в его теоретических тестах мы находим суждения и о методе, и о конструкции как значимом элементе такого метода. Судя по следующему высказыванию, В. Кандинский – сторонник не только интуитивного творчества, но и создания метода творчества. «Краха, к которому могла бы легко привести эмоция сама по себе, – пишет он, – можно избежать только с помощью точного анализа работы. Правильный метод удержит нас от ложного пути» [90]. С пониманием метода связано и представление о конструкции воспроизводимого природного явления. Говоря о конструкции, В. Кандинский связывает ее не только с конкретным произведением, но с открытием конструктивной формы эпохи. В качестве иллюстрации В. Кандинский ссылается на кубизм, в котором природная форма подчиняется конструктивной цели [91].
12. Проблема новой культуры как проблема ее языка
В. Кандинского и С. Эйзенштейна объединяет то, что они отреагировали на переходность эпохи, но не в политическом, а в культурологическом смысле этого слова. Они ответили на «запрос», что исходил из переживающей в этот период радикальную трансформацию культуры. Если, как можно констатировать, потребность в теории обостряется, и она оказывается необходимой, а ее все же не существует, то в этом случае неизбежно обращение к философии. Причем, иногда осознанное, а иногда неосознанное. Так, в тестах В. Кандинского отсутствует упоминание о Шопенгауэре. Между тем, понимание и процесса, в который он вовлечен, и образа художника, в соотнесенности с этим процессом, у него шопенгаэровское.
С другой стороны, как мы уже показали, рефлексия В. Кандинского полностью соответствует той философской традиции, смысл которой со времен Гегеля формулируется так. История искусства с точки зрения Гегеля предстает историей становления Духа. Не историей стилей, как это представляют искусствоведы, не историей смены систем видения, не историей шедевров и не историей художников, как это еще было представлено в известных жизнеописаниях отца истории искусства Д. Вазари, а именно, историей той безличной стихии, которая и является историей Духа. Конечно, в истории искусства не всегда прибегают к этой гегелевской традиции, хотя известно, что, например, М. Дворжак из этой традиции исходил [92].
Что касается В. Кандинского, то, не делая в своих тестах сносок на Гегеля, В. Кандинский, тем не менее, исходил именно из гегелевской традиции. Даже наступающую эпоху он обозначает эпохой великой духовности. О чем бы художник не говорил и каких художественных форм не касался, для него соотношение внутреннего и внешнего как главное в системе Гегеля, определяет все, что происходит в искусстве. Это исходная точка в его воззрениях на искусство сохраняется на протяжении всей его жизни. Гегелевская формула помогает В. Кандинскому понять тот слом, что происходит в его время, тот переход от предметности традиционного искусства к беспредметным формам. Ведь все старое искусство функционировало так, что внешнее в нем доминировало, препятствуя наиболее полному выражению внутреннего. Освобождение внутреннего, что для Гегеля выражает смысл третьей фазы в становлении Духа. Для самого Гегеля освобождение развертывается с момента заката язычества и с восхождением христианства. Именно в христианской культуре, представленной Западом, Дух уже тяготится даже той гармонией, что имела место в классических формах искусства.
Не зная Гегеля, В. Кандинский провозглашает, что подлинное освобождение Духа предстает вовсе не в готике, не в классицизме и не в барокко, а с началом возникновения беспредметности. В тех формах искусства, в которых доминировала предметность, а, следовательно, торжествовал античный мимесис, полной свободы внутреннего не было и не могло быть. Такая свобода пришла с авангардом. Именно с этого времени дух призывается к стихии беспредметности и впервые становится самоценным. Предметы фрагментируются и растворяются, лишаются четкой видимости. Эта операция и есть сбрасывание с реальности «покрывала Майи». Позитивизм уже не действует. «С другой стороны, – пишет В. Кандинский, – множится число людей, которые не возлагают никаких надежд на методы материалистической науки в вопросах, касающихся «нематерии» или той материи, которая недоступна нашим органам чувств. И подобно искусству, которое ищет помощи у примитивов, эти люди обращаются к полузабытым временам с их полузабытыми методами, чтобы там найти помощь. Эти методы, однако, еще живы у народов, на которые мы, с высоты наших знаний, привыкли смотреть с жалостью и презрением. К числу таких народов относится, например, индусы, которые время от времени преподносят ученым нашей культуры загадочные факты, на которые или не обращали внимания или от которых, как от назойливых мух, пытались отмахнуться поверхностными словами и объяснениями» [93].
В качестве иллюстрации обращения к примитивам В. Кандинский называет Пикассо, открытия которого во многом обязаны искусству негров. «В своих последних вещах, – пишет В. Кандинский, – с 1911 г. он (Пикассо – Н.Х.) приходит логически к разложению материи, но не путем ее уничтожения, а при помощи своего рода расчленения отдельных органических частей и их конструктивного рассеяния по картине: органическая раздробленность, служащая целям конструктивного единства» [94]. Собственно, от наблюдений над другими художниками, В. Кандинский делает такое признание о себе: «И вот предметы на моих картинах стали постепенно, шаг за шагом, растворяться. Это можно видеть практически во всех картинах, начиная с 1910 года» [95].
Таким образом, авангард, конечно, вышел из столь нетерпимого к позитивизму символизма. Тем не менее, в контексте авангарда с его космическими притязаниями и понижением социологических установок позитивизм вновь поднял голову. Если это еще не столь очевидно применительно к формалистам, трансформировавших опыт футуризма в формальную эстетику, то очевидно применительно к пропповской методологии анализа волшебной сказки. Здесь мы сталкиваемся с противоречием внутри авангарда – с активизацией позитивизма и с его отторжением. К первой позиции близка оживляемая формалистами аристотелевская традиция, что констатирует О. Ханзен-Леве. «Поэтика Аристотеля не случайно была одним из наиболее читаемых и обсуждаемых произведений в области теории литературы в 10-20-е годы ХХ века (в России в том числе), – пишет исследователь, – более того, можно говорить о ренессансе аристотелевского наследия в современном искусствознании и эстетике, правда, приведшем к достаточно различным новым оценкам. Так, русских формалистов интересовала не столько теория мимесиса, сколько его признание конструктивной автономии поэзии и следующей из этого необходимости имманентного анализа, который бы разбирал, подобно логике и риторике, поэтические произведения в их условности и цельности на предмет соответствующих технических приемов» [96].
Однако хотя эта аристотелевская традиция и оказалась на протяжении всего ХХ века весьма устойчивой, что позднее стало очевидным в связи с возникновением структурализма и модой на него в 1960-е годы, в том числе, и в России, тем не менее, она всей эстетики авангарда не определяет. С этим связано, пожалуй, самое неразгаданное в авангарде, да, собственно, до сих пор остается неразгаданным и весь авангард. Выявление платоновского комплекса в культуре обязывает осознать поиск в возникающей культуре языка. Не случайно уже формализм активно обращается к лингвистике.
При характеристике переживаемой культурой этой эпохи трансформации попробуем исходить из идеи Ю. Лотмана о существовании в истории двух типов культуры. Существуют культуры, в которых длительное время не происходило резких сломов и скачков. Многое в них происходящее задавалось существующими образцами или текстами и их перманентным повторением в истории. Культуры, исходящие из таких текстов как образцов, Ю. Лотман относит к культурам текста. Но есть культуры другого рода, в которых перемены и сдвиги, иногда довольно радикальные, случаются постоянно. В них получают развитие формы, не имеющие прецедентов. Поэтому в своем развитии они уже не могут опираться на образцы и тексты. На первый план в них выходит грамматика или свод норм и правил, в соответствии с которыми создаются тексты, новые тексты [97]. Такие культуры можно назвать культурами грамматики.
Но эту схему можно использовать при характеристике не только разных культур, но и разных периодов в одной и той же культуре, скажем, русской. В самом деле, эпоха авангарда или начало ХХ века как раз и является такой эпохой, эпохой, в которой происходит трансформация ее как культуры текстов в культуру грамматики. Эпоха В. Кандинского и С. Эйзенштейна – это эпоха движения к новым формам языка. Но это движение парадоксальным образом возвращало к исходной точке – к праязыку. Именно в этом заключается разгадка интереса к примитиву. Именно поэтому в начале ХХ века такую актуальность приобретает проблема языка искусства и, еще точнее, языка каждого вида искусства. Это касается в первую очередь кинематографа, который как вид искусства лишь рождался. Но это в не меньшей степени касается и живописи, радикально обновляющей свой язык.
Это становилось проблемой, которую стремились решать и В. Кандинский в живописи, и С. Эйзенштейн в кино. Так, грамматику новых форм искусства В. Кандинский ставит в зависимость от внутреннего содержания как доминанты в той культуре, которая рождается. «Сейчас можно только предчувствовать подобную грамматику живописи, а когда искусство до нее, наконец, дорастет, то она окажется построенной не столько на физических законах (как уже и пробовали сделать), а на законах внутренней необходимости, которые я спокойно и обозначаю именем душевных» [98]. Такой грамматики еще нет, но она должна появиться. «Успехи, вызванные систематической работой, – пишет художник, – вдохнут жизнь в словарь элементов, в который в дальнейшем мог бы привести к созданию «грамматики» и в конце концов вывести нас к учению о композиции, которое перешагивает границы отдельных искусств и занимается «искусством в целом» [99]. Так решается В. Кандинским проблема синтеза. Все свидетельствует о том, что русская культура начала ХХ века становится культурой с ориентацией на грамматику. Это в полной мере выражает опыт и В. Кандинского и С. Эйзенштейна.
13. Демиургический пафос авангарда в культурологической интерпретации.
Культ беспредметности как признак культуры идеационального типа
Улавливая в суждениях В. Кандинского заимствованную у Гегеля философскую логику, мы, конечно, как нам представляется, в его концепции творчества кое-что объяснили. Это позволило точнее представить и ту новую творческую эпоху, какой она представлялась рыцарям авангарда. Однако, видимо, гегелевские идеи еще не позволяют адекватно осмыслить суждения В. Кандинского и заключенный в них смысл. Дело, пожалуй, здесь заключается в том, что сегодня авангард нуждается в культурологическом прочтении, а концепция Гегеля не только этому способствует, но, пожалуй, и противоречит. Такое прочтение, по сути, является продолжением идей, которые пытались сформулировать В. Кандинский и С. Эйзенштейн.
Все дело в том, что мировосприятие модерна, предоставив свободу разуму, в то же время в качестве следствия своего утверждения имело жертвоприношение в виде разрушения культуры. Ведь разрушение в ходе революций традиционных обществ не могло быть нейтральным по отношению к культуре. Открыв свободу личных инициатив, что получило развитие и в политике, и в экономике, модерн, освящая разрушение традиционных обществ, бессознательно подкладывал бомбу под многие традиции прошлого, которые и есть культура, функционирующая в больших длительностях. Этот разрушительный процесс, однако, способствовал пониманию необходимости осознания культуры, чего в эпоху раннего модерна не имело места.
Действительно ли возникающая новая культура отправляет в небытие уже существующие формы и ценности или же все же к этому вопросу не следует подходить столь радикально? Может быть, отвергаемые формы и ценности не должны быть разрушены. Может быть, они лишь вытесняются в подсознание культуры, чтобы ждать возможной их актуализации в другое время. Дело в том, что в искусстве переход от предметности к беспредметности, вокруг чего, собственно, и рефлексирует постоянно В. Кандинский, является лишь частным моментом того универсального процесса, который порождает авангард. Если вернуться к аристотелевской традиции, реабилитируемой «формальной» школой, то ведь эта традиция, близкая позитивизму, что и продемонстрировал В. Пропп, анализируя текст сказки, воспользовавшись методологией, извлеченной из естественных наук, по сути дела, вырвана из диалога, точнее, оппозиции, которая реальна для всей истории искусства.
Аристотелевская традиция является лишь одним из составляющих эту оппозицию образований. Другая составляющая связана не с Аристотелем, а с Платоном. Смысл этой оппозиции в эстетике осознан в истории теорий искусства, в частности, в варианте Э. Панофского [100]. Как утверждает Э. Панофский, рождение такой оппозиции в искусстве произошло еще в ХУ веке. Э. Панофский выстраивает логику истории теорий искусства, исходя из постоянно в ходе истории изменяющейся оппозиции между платоновской, с одной стороны, и аристотелевской, с другой стороны, традиций. Естественно, что, хотя Э. Панофский эту историю и не довел до ХХ века, заданная им логика может быть продолжена для интерпретации опыта авангарда.
Касаясь практического и теоретического опыта В. Кандинского и С. Эйзенштейна, мы в ХХ веке улавливаем актуализацию не только аристотелевской, но и платоновской традиции, без которой, видимо, эстетику авангарда понять невозможно. С точки зрения этой, еще одной интерпретации новаций авангарда и шопенгауэровская, и восточная, и даже гегелевская традиция оказываются недостаточными, не позволяющими еще понять новации авангарда. Ведь эти новации - следствие возникающей альтернативной культуры. Чтобы понять эстетику авангарда, следует осознать духовное ядро этой культуры.
Посмотрим на тексты В. Кандинского под тем углом зрения, который подразумевает актуальность в первых десятилетиях ХХ века платоновской традиции. Выявляя смысл этой традиции, мы, пожалуй, наконец-то, приоткрываем и смысл экспериментов авангарда, которые до сих пор осмыслялись под разными углами зрения, но преимущественно лишь частично. Прежде всего, мы откроем смысл авангарда не только как творчества искусства, но как творчества культуры. Для начала присмотримся к употребляемой В. Кандинским терминологии. Не часто, но все же художник употребляет понятие «сверхчувственное». Так, рассуждая о воздействии синего цвета, он пишет: «Чем глубже становится синее, тем больше зовет оно человека к бесконечному, будит в нем голод к чистоте и, наконец, к сверхчувственному» [101].
Причем, у него это сверхчувственное является синонимом беспредметного, а беспредметное у него, как мы убедились, – синоним внутреннего, т. е. в соответствии с Гегелем, сущности творящего Духа. В качестве примера употребления понятия «сверхчувственное» у В. Кандинского мы обратимся к его чрезвычайно любопытному комментированию драматургии М. Метерлинка. У М. Метерлинка В. Кандинский подмечает особое обращение со словом, когда оно расходится с предметным содержанием и приобретает абстрактное представление, дематериализованный предмет. Процесс освобождения от мимесиса в его элементарном понимании в эпоху В. Кандинского развертывался ведь и в поэзии. «Целесообразное (соответственно чувству поэта) применение слова, внутренне необходимое повторению его два раза, три раза, много раз друг за другом – пишет он- может иметь своим последствием не только возрастание внутреннего звука, но и вызвать еще другие, до тех пор скрытые духовные свойства слова. Наконец, при многократном повторении слова (излюбленная, впоследствии забываемая игра детских лет) оно теряет внешний смысл обозначения предмета; таким путем теряется ставший даже отвлеченным смысл называемого предмета и остается обнаженным от внешности исключительно чистый звук слова. Быть может, бессознательно слышим мы этот «чистый звук» в сочетании его с реальным, а также ставшим впоследствии отвлеченным предметом. Но в случае его обнажения этот чистый звук выступает на первый план и оказывает непосредственное давление на душу. Душа потрясается беспредметной вибрацией, еще более сложной, еще более, если можно так выразиться, «сверхчувственной», чем душевная вибрация, возникающая от удара колокола, от звучащей струны, от упавшей доски и т.д. Здесь открываются широкие перспективы для литературы будущего, которая увеличит арсенал своих средств также и такими словами, которые, не обозначая никакого предмета и будучи практически нецелесообразными, будут употребляться как абстрактно целесообразный внутренний звук» [102].
Сверхчувственное для В. Кандинского также – синоним невидимого, что так культивировалось символистами. У художника такое же отторжение позитивизма, как и у символистов. «Не все можно увидеть или потрогать, или, лучше сказать, под видимым и материальным находится невидимое и нематериальное. Сегодня мы стоим на пороге времени, к которому ведет одна - лишь одна – постоянно идущая все больше в глубину ступень. Во всяком случае, сегодня мы можем только догадываться, в какую сторону поставить ногу, чтобы нащупать следующую ступень. И это является спасением. Несмотря на, казалось бы, непреодолеваемые противоречия, современный человек не довольствуется больше внешним. Его взгляд оттачивается, его слух обостряется, и его желание за внешним увидеть и услышать внутреннее растет» [103].
Таким образом, для В. Кандинского сверхчувственное – это существенный признак того духовного, из которого художник пытается исходить, когда он касается разных эпох в истории искусства или пытается прогнозировать в будущем и выявлять в хаосе художественной жизни первых десятилетий ХХ века какую-то логику. Конечно, такой терминологии в теоретическом наследии С. Эйзенштейна нет. Но это совсем еще не значит, что эксперименты С. Эйзенштейна развертываются вне становления культуры нового типа. Да, в своей концепции метода С. Эйзенштейн оказывается близким представителям «формальной» школы, как, собственно, и аристотелевской традиции в целом, из которой выходят представители «формальной» школы.
Но это не означает, что ему платоновская традиция совершенно чужда. Раз в его творчестве можно констатировать влияние символизма, то у него мы не можем не уловить эха платоновской традиции. Не случайно С. Эйзенштейн так внимателен к архаическим и мифологическим формам искусства. Несмотря на рационализм мастера, в его революционных фильмах улавливается мистический и, еще более точно, хилиастический комплекс, который К. Манхейм находит в той разновидности утопии, которую он называет хилиастической. Несмотря на то, что С. Эйзенштейна скорее можно отнести к коммунистической утопии, тем не менее, хилиазм все же у него улавливается, а, следовательно, стихия сверхчувственного тоже ему не чужда. Как и В. Кандинский, С. Эйзенштейн вписывается в рождающуюся культуру, в которой сверхчувственное окажется значимым, даже определяющим признаком.
В связи с тем, что у В. Кандинского беспредметное уже не просто исключает предметное и телесное, а предполагает особое, пока еще не называемое и отсутствующее у Гегеля качество, а именно, сверхчувственное, у нас возникает возможность интерпретации его практического и теоретического опыта в духе тех философских и культурологических концепций, в которых взаимоотношения между чувственным и сверхчувственным при определении типологии культуры получают универсальный смысл. Здесь, прежде всего, конечно, следует говорить о возможности интерпретации идей В. Кандинского и авангарда в духе циклической концепции истории культуры П. Сорокина [105]).
Для П. Сорокина цикл в истории культуры, для которого характерно чувственное как доминанта, связан, прежде всего, с предметным и телесным, что, как утверждает В. Кандинский, постепенно уходит на задний план. Рождающаяся культура, приходящая на смену культуре, в которой чувственное и предметное было доминантой, – это культура, в которой активизируется сверхчувственная стихия. Сверхчувственное – это то внутреннее, которое для В. Кандинского важнее внешнего. Но у В. Кандинского сверхчувственное – это то, что с помощью предметности представить трудно. Чтобы его достичь, необходимо выйти в пространство беспредметности. Следовательно, такой переход возможен лишь в культуре, в которой чувственное и предметное отступает перед сверхчувственным и невидимым, что оказывалось в центре внимания еще символистов. Это они, прогнозируя возникновение новой культуры, уже ощущали ее сверхчувственное ядро, а его нельзя увидеть, а можно лишь помыслить.
Как этот тип культуры можно назвать? Его П. Сорокин назвал культурой идеационального типа. Что значит идеационального? Это значит, что ее ядром является «идея». Но ведь «идея» у Платона является основным философским концептом. Иногда этот концепт он называет «эйдосом» или «первообразом». Вот и получается, что та культура, которая приходит в эпоху, называемую В. Кандинским эпохой великой духовности, есть культура, в которой Аристотель снова отступает перед Платоном. А вместе с аристотелевской традицией уходит в тень и весь тот культ научности и рациональности, который оказывается в основе всей альтернативной по П. Сорокину культуры. Эту культуру ученый называет культурой чувственного типа. Но культура чувственного типа – это та культура, в которой чувственное, предметное, телесное начало являлось доминантой.
Так, с помощью Платона, а точнее, с помощью П. Сорокина, возвращающего к парадигме Платона, можно точнее понять, какой тип культуры пригрезился В. Кандинскому и вообще, какой тип культуры обещал и художественные эксперименты авангарда. Да, это та культура, в которой сверхчувственное начало будет доминировать. Следовательно, если использовать принцип маятника, который помогает Э. Панофскому констатировать смену в понимании реальности разных философских традиций, то В. Кандинскому, как и авангарду в целом, оказывается ближе платоновская традиция. Эта традиция – основа возникновения и развития альтернативной культуры. Взрыв беспредметности и возврат к исходной точке в истории искусства, о чем свидетельствует тяготение к примитиву, – это признаки как раз той культуры, которую представители авангарда предчувствовали и которую они с помощью своих экспериментов приближали.
Это обстоятельство – главное и для понимания и проекта новой культуры у В. Кандинского, и смысла культуры идеационального типа у П. Сорокина – позволяет снова вернуться к идее синтеза, как его видит В. Кандинский. Ведь эта переоценка ценностей, что развертывается в начале ХХ века, предполагает вовсе не культ индивидуального, угрожающего перерасти во вседозволенность индивидуализма, а, наоборот, культ коллективного. Монументальное искусство как аналог вагнеровского gesamtkunstwerk предполагает коллективный смысл. Нет, совсем не случайно в 1910-е годы в России уже начинают творить такие гиганты авангардного искусства, как В. Кандинский и К. Малевич. Не случайно Россия не проходит мимо всплеска авангарда в мировой культуре. Ведь авангард – предвосхищение культуры идеационального типа с присущими ей коллективными установками. Но в какой культуре, кроме русской, эта установка выражена наиболее отчетливо?
Именно под этим углом зрения и представлялся В. Кандинскому синтез искусств, в котором, согласно концепции художника, архитектура окажется в центре. Так, комментируя замечания немецкого архитектора В. Гропиуса к программе русских художников, в которой архитектура оказывается в центре искусств, В. Кандинский пишет: «Разрозненные направления могут объединяться только под сенью новой архитектуры, так, чтобы каждое из них могло участвовать в общем строительстве» [106]. Но почему же архитектура оказывается в центре других видов и определяет особое понимание синтеза? Потому что ей присущ коллективный дух, выражением которого она является. «Здание – это непосредственный носитель духовных сил, создающий формы переживаний коллектива, ныне еще дремлющих, но готовых пробудиться. Лишь полная духовная революция создает такое здание. Но сама по себе не придет эта революция, и здание такое не появится. Должна появиться воля к ним – современные зодчие должны подготовить это здание» [107]. Однако тут же В. Кандинский пишет, что архитектуре присущ не только коллективный, народный дух, но космический характер. Почему коллективный дух выходит на передний план, вытесняя столь культивируемый ХIХ веком дух индивидуальный? Да потому, что, как доказывает П. Сорокин, культура идеационального типа культивирует коллективный дух вместо духа индивидуального. В этом заключается специфика культуры этого типа, которую прозрели художники авангарда – пророки культуры идеационального типа.
[55] Кандинский В. Указ. соч. Т. 1. С. 270.
[56] Эйзенштейн С. Метод. Т. 2. С. 17.
[57] Там же. С. 18.
[58] Бердяев Н. Философия свободы. С. 299.
[59] Кандинский В. Указ. соч. Т. 1. С. 166.
[60] Юнг К. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. С. 219.
[61] Там же. С. 220.
[62] Кандинский В. Указ. соч. Т. 1. С. 319.
[63] Там же. Т. 2. С. 291.
[64] Там же. Т. 1. С. 326.
[65] Вакар И. В поисках утраченного смысла. Кризис предметного искусства и выход к «абстрактному содержанию» // Беспредметность и абстракция. М.: Наука, 2011. С. 20.
[66] Кандинский В. Указ. соч. Т. 1. С. 321.
[67] Там же. Т. 1. С. 324.
[68] Хренов Н. Русская культура на перекрестке Запада и Востока. Восток как подсознание России // Искусствознание. 2013. № 3-4. С. 110.
[69] Франк С. Русское мировоззрение. СПб.: Наука, 1996. С. 180.
[70] Кандинский В. Указ. соч. Т. 1. С. 74.
[71] Эйзенштейн С. Метод. Т. 2. С. 146.
[72] Там же.
[73] Там же.
[74] Кандинский В. Указ. соч. Т. 2. С. 42.
[75] Юнг К. Указ. соч. С. 220.
[76] Хренов Н. Русская культура на перекрестке Запада и Востока. С. 110.
[77] Кандинский В. Указ. соч. Т. 1. С. 302.
[78] Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней. М.: Прогресс, 1995. С. 136.
[79] Там же.
[80] Там же.
[81] Там же. С. 137.
[82] Бердяев Н. Философия свободы. С. 504.
[83] Кандинский В. Указ. соч. Т. 1. С. 86.
[84] Булгаков С. Два града. Исследование о природе общественных идеалов. СПб.: РХГИ, 1997. С. 259.
[85] Кандинский В. Указ. соч. Т. 1. С. 88.
[86] Бердяев Н. Философия свободы. С. 507.
[87] Малевич К. Собрание сочинений в 5 т. Т. 3. М.: Гилея, 2000. С. 92.
[88] Кандинский В. Указ. соч. Т. 1. С. 325.
[89] Там же. С. 305.
[90] Кандинский В. Указ. соч. Т. 2. С. 160.
[91] Кандинский В. Указ. соч. Т. 1. С.191.
[92] Дворжак М. История искусства как история Духа. СПб.: Академический проект 2001.
[93] Кандинский В. Указ. соч. Т. 1. С. 165.
[94] Там же. С. 175.
[95] Там же. С. 321.
[96] Ханзен-Леве О. Указ. соч. С. 17.
[97] Лотман Ю. Проблема «обучения культуре» как ее типологическая характеристика // Труды по знаковым системам. Выпуск 5. Тарту.: Изд. Тартусского ун-та, 1971. С. 168.
[98] Кандинский В. Указ. соч. Т. 1. С. 122.
[99] Кандинский В. Указ. соч. Т. 2. С. 160.
[100] Панофский Э. Idea. К истории понятия в теориях искусства. От античности до классицизма. СПб.: Андрей Наследников, 1999.
[101] Кандинский В. Указ. соч. Т. 1. С. 128.
[102] Кандинский В. Указ. соч. Т. 1. С. 168.
[103] Кандинский В. Указ. соч. Т. 2. С. 207.
[104] Там же.
[105] Хренов Н. История искусства в ракурсе социодинамики культуры // Вопросы культурологии. 2015. № 4. № 5-6.
[106] Кандинский В. Указ. соч. Т. 2. С. 44.
[107] Там же.
© Хренов Н.А., 2019
Статья поступила в редакцию 15 июля 2018 г.
Хренов Николай Андреевич,
доктор философских наук, профессор
Всероссийского государственного университета
кинематографии им. С.А. Герасимова.
email: nihrenov@mail.ru

ISSN 2311-3723
Учредитель:
ООО Издательство «Согласие»
Издатель:
Научная ассоциация
исследователей культуры
№ государственной
регистрации ЭЛ № ФС 77 – 56414 от 11.12.2013
Журнал индексируется:
Выходит 4 раза в год только в электронном виде
Номер готовили:
Главный редактор
А.Я. Флиер
Шеф-редактор
Т.В. Глазкова
Руководитель IT-центра
А.В. Лукьянов
Наш баннер:

Наш e-mail:
cultschool@gmail.com
НАШИ ПАРТНЁРЫ:
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Культуру культуры» обязательна.
© Научная ассоциация исследователей культуры, 2014-2024







