НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Научное рецензируемое периодическое электронное издание
Выходит с 2014 г.

Гипотезы:
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Э.А. Орлова. Антропологические основания научного познания
Дискуссии:
В ПОИСКЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (рубрика А.Я. Флиера)
А.В. Костина, А.Я. Флиер. Тернарная функциональная модель культуры (продолжение)
Н.А. Хренов. Русская культура рубежа XIX–XX вв.: гностический «ренессанс» в контексте символизма (продолжение)
В.М. Розин. Некоторые особенности современного искусства
В.И. Ионесов. Память вещи в образах и сюжетах культурной интроспекции
Аналитика:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
А.Я. Флиер. Социально-организационные функции культуры
М.И. Козьякова. Античный космос и его эволюция: ритуал, зрелище, развлечение
Н.А. Хренов. Спустя столетие: трагический опыт советской культуры (продолжение)
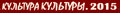

Н.А. Хренов
Взаимодействие между искусствознанием и культурологией:
методологический и исторический аспекты (продолжение)
Аннотация. В настоящей публикации автор продолжает начатое в первой части статьи изложение своей трактовки культурологии как современного «искусствознания без имен», что интерпретируется с позиций разделяемого им циклического понимания истории и культурной динамики. Обосновывается авторский взгляд на искусство как основную историческую и социальную форму культуры.
Ключевые слова. Культура, искусство, история, культурология, искусствознание, общество как продукт культуры, переходный период.
8. Социология ХIХ века как предыстория культурологии.
Культурология как теория высшего уровня социологии
Всех этих вопросов мы касаемся пока лишь применительно к социологии, в границах которой уже появляются и формулируются вопросы, исчерпывающие ответы на которые можно получить лишь на уровне культурологической рефлексии. Как известно, на протяжении всей истории становления получения знания с помощью социологии была актуальна проблема построения так называемой теории среднего уровня, поскольку теория нижнего уровня – это конкретно-эмпирические опросы, которые интерпретировать без теории среднего уровня невозможно. Но построение такой теории зависит не только от нижнего уровня, но, видимо, и от высшего уровня. Этот высший уровень зависит от культурологического знания. Да, собственно, теория высшего уровня и есть культурология. Данные социологических опросов трудно интерпретировать, не отдавая отчета в том, в каком типе культуры происходит контакт массы с искусством. Без развитой теории и истории культуры исчерпывающая интерпретация социальных процессов невозможна.
Известно, что в иные периоды огромные массы публики оказываются нечувствительными к тем фактам собственно искусства, что составляют суть его истории и высоко оцениваются критикой. Понятно, что такая трансформация в истории искусства произошла в эпоху индустриального общества. В истории науки этот сдвиг впервые был зафиксирован Г. Лебоном и Н. Михайловским. Так, когда Г. Вельфлин формулировал принцип «история искусства без имен», то он лишь воспользовался представлением, которое успело оформиться в позитивизме ХIХ века и, в частности, в таком его ответвлении, как социология. Ведь социология развивалась под сильным воздействием естественных наук. Это порождение позитивизма. Однако (и тут мы подходим к центральному пункту нашей работы) формула «история искусства без имен» в еще большей степени получила выражение в тех философских концепциях, которые касались искусства. Это не удивительно, ведь после кантовской реформы в философии философия заметно сближалась с естественными науками. Даже и позитивистская трактовка формулы Г. Вельфлина берет начало в рефлексии не О. Конта, а Гегеля. Во всяком случае, А. Хаузер в формуле Г. Вельфлина усматривал именно влияние Гегеля [22]. Собственно, то же самое утверждает и один из самых авторитетных историков искусства ХХ века Э. Гомбрих.
В самом деле, что такое формула Г. Вельфлина «история искусства без имен» как не иначе изложенный тезис Гегеля «история искусства как история духа», который все еще не забыт историками искусства ХХ века, в частности, таким авторитетным историком искусства, как М. Дворжак [23]. Предмет истории искусства – это парящий не только над выдающимися индивидуальностями, но и над целыми народами и обществами Дух. Очевидно, что в представлении Гегеля история – это безличная история, но это все же история. Такой она представлялась в эпоху Просвещения. Пожалуй, именно с Гегеля и началась подлинная история искусства, поскольку этот философ впервые продемонстрировал значимость в истории искусства контекста. Причем, первое знакомство с гегелевской системой озадачивает. В каком направлении интерпретировать эту архитектурно созидаемую систему – в социологическом или в культурологическом? Ведь как социология, так и поздней культурология имеют один и тот же корень – философию эпохи Просвещения.
Рискуя вызвать возражения, попробуем все же интерпретировать это грандиозное философское творение в культурологическом ключе. Спрашивается, если мы настаиваем на том, что Гегель при рассмотрении искусства приковал внимание к контексту, то, что же понимать под контекстом? Социологи, естественно, под контекстом понимают общество. Но, начиная со Шпенглера, под этим контекстом все больше стали понимать именно культуру. Так мы приходим к тому, чтобы продемонстрировать приложимость формулы Г. Вельфлина, возвращающей к философии ХVIII века, к сфере культуры. По аналогии с социологическим подходом культурологический подход вроде бы должен радикально отредактировать персонализм истории искусства и очень сильно потеснить подход, ставший с эпохи Д. Вазари для искусствознания нормой. Все свидетельствует о том, что при культурологическом подходе высокий статус контекста вытесняет личность художника с того высокого пьедестала, на который ее поставила превратившаяся в науку о шедеврах искусствоведческая наука, хотя, как уже отмечалось, еще представители «формальной школы» серьезно ставили вопрос о необходимости изучения всех литературных рядов, в том числе, изучения так называемой массовой литературы.
Собственно, кажется, что культурологический подход приводит к понижению статуса личности художника. Именно так формулирует вопрос один из авторитетных представителей культурной антропологии ХХ века А. Кребер. Он утверждает: если быть последовательными и придерживаться позиции культуролога, то можно прийти к понижению роли индивидуальности в культурном процессе. А. Кребер прямо формулирует: культуролог абстрагируется от индивидуальности художника. Так говоря о несходстве методов историка и историка культуры, А. Кребер констатирует: культура представляет набор моделей, абстрагируемых от поведения, а история соотносится с действиями людей или событиями и лишь в последнюю очередь с моделями. Ссылаясь на Р. Кулборна, он пишет: «Тот, кто изучает культуру, сосредоточен на закономерностях и повторениях, не предполагаемых свойствах человеческой жизни в данном месте и в данное время; тогда как историк придает особое значение единичному характеру исторических событий и, следовательно, их неповторимости» [24]. И, наконец, следующее суждение А. Кребера имеет прямое отношение к индивидуальности художника. «Нет сомнения в том, что, – пишет А. Кребер, – гениальные люди играют большую роль в формировании большинства стилей. Но гениальный человек является членом общества и одним из создателей его культуры не в меньшей степени, чем индивидуальной личностью; поэтому вполне законно время от времени абстрагироваться от его индивидуальности и трактовать его как явление культуры» [25].
Очевидно, что трансформация статуса художника связана не со спецификой социологического подхода. Происхождение этого процесса и его осмысление связано с философией ХVIII века. На наш взгляд, ставшая основой эстетики концепция Гегеля явилась не только исходной точкой для последующих социологических представлений. Она уже содержала в себе ту «идею культуры», которая требовала расшифровки, но уже не в социологическом, а в культурологическом ключе. На наш взгляд, Гегель явно имел в виду не социальный, а именно культурный контекст. Такая наша формулировка тоже не совсем точна. В философии Гегеля явно имелись неосознаваемые аспекты, и они связаны с культурой. Гегель представляет не только философию своего времени со всеми ее как сильными, так и слабыми сторонами, но и культуру, какой она была в ХVIII веке. Он мыслит в соответствии с ее установками. Гегель представляет не просто культуру, а культуру в абстрактном ее понимании. П. Сорокин потом выскажет тезис, в соответствии с которым те или иные ориентации науки определяются типом культуры. Этот его тезис справедлив и по отношению к философии.
Было время, когда философию Гегеля рассматривали без ее соотнесенности с типом культуры, т.е. западной культуры. Сегодня так к ней относиться уже невозможно. В своих философских построениях Гегель бессознательно выражает императивы культуры Запада. Его философия могла возникнуть лишь в специфической культуре с ее универсалистскими и европоцентристскими притязаниями. Вот тут-то и становится очевидной причина того, почему «идея культуры» хотя и возникла в ХVIII веке, но в культурологическую методологию она не была развернута. Чтобы расширить контекст выдвинутых Гегелем проблем и дать их культурологическую интерпретацию, необходимо выйти за пределы императивов и прасимволов западной культуры и принять во внимание реальность других культур. В этом направлении в ХVIII веке уже двигались Гете и Гердер. Чтобы система видения мира, которую уже прозревали отдельные мыслители ХVIII века, определилась, нужно было ждать еще, как минимум, столетие.
Для того, чтобы история искусства обрела культурологическую форму, необходимо было разрушить европоцентризм с сопутствующим ему нарциссизмом фаустовского человека, который мало интересовался другими культурами, а если даже и интересовался, то в них вычитывал лишь то, что было созвучно собственной культуре. Такова оборотная сторона фанатической веры фаустовского человека, в то, что Запад является единственным творцом и транслятором общечеловеческих ценностей. В итоге имеющий место на Западе в эпоху Просвещения колоссальный прогресс мысли наталкивался на ограничения, тормозившие развитие культурологической рефлексии. Получается, что не только в искусстве в каждый период не все возможно, но и в философии не все возможно. Оказавшаяся за пределами западного мира вся остальная история представала, в соответствии с Шопенгауэром, «волей и представлением» западного человека. В соответствии с этим фаустовским нарциссизмом реальность других культур интерпретировалась с помощью языка, вызванного к жизни западной культурой и призванного осознать процессы именно этой культуры. Для понимания других культур такое видение оказалось недостаточным и неадекватным. Это-то и ощутил еще в ХIХ веке Н. Данилевский и, несомненно, в этом он был прав.
Чтобы прорваться к пониманию других культур, необходимо было сорвать то покрывало Майи (опять же метафора Шопенгауэра), которое было проекцией западного сознания на весь остальной мир. В результате этой аберрации из истории выпадали и целые эпохи, и целые культуры. Так, например, вне внимания западного человека оказались собственная культура средних веков, которой пожертвовал еще патриарх искусствознания Д. Вазари. Оставалась незамеченной и угасшей еще в ХV веке византийская культура, находившаяся в средние века в расцвете и оказывавшая мощное влияние на западное искусство вплоть до Джотто. По этому поводу сетовал еще К. Леонтьев. «Византийское общество… пострадало от равнодушия, или недоброжелательства, писателей западных, от неподготовленности и долгой незрелости нашей русской науки, – писал он, – Византия представляется чем-то сухим, скучным, поповским, и не только скучным, но даже чем-то жалким и подлым. Между падшим языческим Римом и эпохой европейского Возрождения обыкновенно представляется какая-то зияющая темная пропасть варварства» [26].
Как утверждал Э. Гомбрих, Джотто был многим обязан византийскому искусству, но именно с него открывалась в истории искусства новая эпоха. Джотто удалось преодолеть чары византийской застылости и выйти в новое художественное пространство [27]. С него начинается в искусстве тот динамизм, который окончательно развел Запад с Византией, хотя та и другая культура произошли от общего корня – античности. Византийская культура демонстрировала особый вариант синтеза культур, в том числе, и особый вариант взаимодействия с Востоком. Это была альтернатива Западу, долгое время остававшегося еще слабым. Об этой конструктивности альтернативы в истории искусства стали размышлять в начале ХХ века в связи с открытием древнерусской иконы и ее влиянием на художественный авангард [28]. В свое время огромный резонанс произвела работа В. Воррингера «Абстракция и вчувствование» (1908), в которой были реабилитированы архаические эпохи в истории искусства. Но, как свидетельствует Ж. Базен, его работа способствовала и пробуждению интереса, в частности, к византийскому искусству [29].
То обстоятельство, что византийское искусство пришлось открывать заново, сложилось в результате тех несовершенных представлений, которые складывались в эпоху Винкельмана и Гегеля, для которых искусство Рима первого, как и искусство Рима второго – Византии оказывалось выражением деградации и упадка. Так, Гегель ошибочно утверждает, что в Риме отсутствует прекрасное, свободное и великое искусство. По его мнению, это не более, как подражание грекам. «Дух римского мира, – пишет Гегель, – это господство абстракции, мертвого закона, разрушение красоты и веселых обычаев, вытеснение семьи как непосредственной природной нравственности, вообще – принесение в жертву индивидуальности, которая отдается государству и находит свое хладнокровное достоинство и рассудочное удовлетворение в повиновении абстрактному закону» [30]. Характеризуя политический строй Рима, подавляющий, по мнению философа, индивидуальность народа, он противостоит истинному искусству. Однако понятно, что его социологическое построение заслонило открытие оригинальности римского гения.
Но то, что не ощутили эстетики, то открыли историки искусства и, в частности, историки искусства, представляющие венскую школу в искусствознании и много сделавшие, в том числе, и для реабилитации византийского искусства, на которое перестали смотреть как только на продолжение и вырождение искусства Рима. Так, Ж. Базен констатирует, что, например, Стшиговский показал «абсолютно оригинальный характер византийского искусства, вызванного к жизни особым восточным мироощущением и принадлежащего к наиболее возвышенным достижениям человечества» [31]. Однако в силу авторитетности точки зрения Винкельмана оказалась односторонне осмысленной, в том числе, и античная культура. А ведь все эти белые пятна, имеющие место в истории искусства, были следствием неразработанности проблемы, связанной с существованием уникальности существующих культур, взаимодействия между ними, как и процессов преемственности в истории. Но все эти вопросы уже оказываются в компетенции культуролога. Пока на культурологическом уровне они не получат осмысление, история искусства как наука будет демонстрировать свои заблуждения.
Постепенно стало выясняться, что просчеты историков искусства, в том числе, и Д. Вазари, для которого, например, средневековое искусство стало предметом презрения, и И. Винкельмана, касались, прежде всего, неспособности к пониманию уникальности других культур, хотя ведь уже гуманистами Ренессанса в этом направлении был сделан первый шаг. Конечно, и Д. Вазари, а затем в еще большей степени И. Винкельман погружались в античную культуру. Но как? К ней они относились как к одному из этапов – раннему в становлении западной цивилизации. Античность западным человеком была «приватизирована». Но раз античность рассматривалась одной из стадий становления Запада, против чего так резко высказывался Шпенглер, то именно в этой античности находили лишь то, что Западу соответствовало. По сути, в эпоху Ренессанса античность не была воспринята такой, какой она была на самом деле, хотя это и провозглашалось. Под видом античности возникла лишь проекция западной ментальности на античность. Странно было бы утверждать обратное, если принимать во внимание то, что к моменту расцвета западного искусства в ХV-ХVI веках культура Запада окончательно утвердила себя христианской. Могла ли состоявшаяся христианская культура адекватно прочитать языческую культуру, даже если на новом этапе своего развития она ощутила в этом необходимость и уже могла реабилитировать некоторые элементы языческой культуры, ведь опасность язычества, которую Запад ощущал раньше, уже миновала.
К этому моменту Запад в своем развитии достиг пика и для него чужие влияния уже были не опасны. Соблазну цветущей сложности античной культуры он уже мог противостоять. Стало быть, интерпретация античности Ренессансом была одной из возможных интерпретаций античности, на которую оказался способным человек, выходящий из Средневековья. Да, собственно, и Средневековье тоже не отвергало античность целиком, вызывая к жизни свойственное ему видение античности. Той интерпретацией античности, что была вызвана к жизни Ренессансом, человечество обязано И. Винкельману. Так, продолжалось до тех пор, пока в конце ХIХ века Ф. Ницше не открыл архаическую Грецию, в которой еще было много от предшествующей крито-микенской эпохи, от «античного Средневековья», если использовать это понятие применительно к античности. Новаторство Ф. Ницше состояло еще и в том, что он не просто открывал архаическую античность. Он сделал гораздо больше. Он продемонстрировал механизм проекции, положив один из периодов античности – период заката мифологии и рождения философии на период истории Запада, т.е. на современный ему период.
Кроме того, история искусства так развивалась, что до ХХ века не было открыто ни римское, ни средневековое искусство. Если под первым подразумевали греческое искусство вообще, не имея представления о самостоятельности римского искусства, то на Средневековье смотрели исключительно как на вырождение греческого искусства. Наконец, из поля зрения историка искусства выпадала существенная проблема, а именно, продолжающееся воздействие культур Востока не только на античное или на византийское искусство, но и на все эпохи западноевропейского искусства. А вот этого-то Гегель как раз и не учитывал. Он, например, был убежден, что в своем развитии Восток давно остановился. А он не остановился, поскольку культивировал иные механизмы эволюции, не допуская разрушительных революционных скачков, возможность и необходимость которых были аргументированы философией Просвещения. Собственно, такие же неадекватные Западу механизмы эволюции демонстрировала и Византия. Поэтому в системе Гегеля история искусства оказалась выпрямленной и схематичной.
Конечно, в свою систему Гегель включает, в том числе, и искусство Востока, подразумевая под ним искусство Египта, Персии и Индии. Однако в соответствии с линейной логикой истории под Востоком он понимает лишь недоразвившуюся до совершенных форм и застывшую в своей косности первую фазу в истории становления Духа. Под развившейся формой Гегель понимал Дух в его западной форме. Казус с Гегелем лишь подтверждает не только искусство, но, в том числе, философия и наука его времени, ведь они развиваются в соответствии с теми установками, которые существуют в культуре. Потом в социодинамике культуры П. Сорокин эту нашу мысль сформулирует более точно. Что же касается предпринятого Гегелем отождествления с Востоком первой фазы развития Духа, то этот гегелевский тезис наука потом будет пересматривать. Так, здесь невозможно не напомнить о гипотезе Н. Конрада о том, что Ренессанс имел место не только на Западе, но и на Востоке, только на Востоке он имел место на много раньше.
Казалось бы, включение Востока в гегелевскую систему уже означало выход из европоцентризма. Но такой выход в реальности все же не состоялся, да и не мог состояться, поскольку видение Гегелем истории определялось линейным принципом. Поэтому переинтерпретация системы Гегеля в культурологическом духе требует обращения к той научной парадигме, которая представлена Шпенглером, Тойнби и Сорокиным. Это жаль, ведь, как известно, в ХVIII веке уже существовала концепция Д. Вико, с которой И. Винкельман был знаком.
Почему же в гегелевской системе Восток сводится к лишь к первоначальному этапу становления Духа? Да потому, что Гегель мыслит в духе прогресса. Если свою эпоху он мыслит как высший момент развития, то ему необходимо в истории отыскать и исходный, несовершенный момент, который он и отождествляет с Востоком. Высшей точкой он мыслит ту историческую ситуацию, что представлена Западом эпохи Просвещения. Для него эта ситуация – итог всей мировой истории, тот высший миг, к которому движется вся история, история всех культур, не достигших той высокой точки, которой, как ему кажется, является западная культура эпохи Просвещения. Сегодня очевидно, что такое видение истории не является адекватным. Оно тенденциозно и выражает точку зрения устремленного к революционному пересозданию социумов и в будущее раннего модерна. Сегодня, когда приходится задумываться о причинах уже имевших место в ХIХ и в ХХ веках войн и революций и о рецидивах все еще существующих на Западе, но в еще большей степени в Америке таких представлений, отдаешь отчет о разрушительных последствиях такого мировидения.
9. История искусства как история становления Духа. Гегелевская идея как исходная точка принципа истории искусства как «истории искусства без имен». Культурологическая интерпретация идеи Гегеля
Какие бы претензии к системе Гегеля не предъявлялись, «идея культуры» в ней уже присутствует, пусть в неразвернутом и потенциальном виде. И поскольку это так, то система Гегеля не может выпадать из внимания современного исследователя. Она должна быть рассмотрена как определенный этап в истории становления наук, постепенно осознающих всю многоаспектность их предмета. Это касается как культурологии, так и истории искусства. Идея линейного принципа в развертывании исторического процесса оказалась причиной уязвимости гегелевской системы. Нечувствительность к истории как истории культур своим следствием имела нечувствительность к циклической логике исторического процесса, что станет актуальным в ХХ веке и, как нам представляется, именно в связи со становлением культурологического подхода. Именно альтернативный линейному циклический принцип позволит разрешить проблему как типологии культур, так преемственности в их развитии, а также и их взаимоотношения.
Если бы Гегель открыл логику циклизма, он бы понял то, что позднее откроет Ф. Ницше, а затем и Шпенглер: ни Восток, ни античность не являются предшествующими Западу ступенями или фазами истории. Это просто иные и самостоятельные культуры, которые проходят те же исторические циклы. Скажем, угаснувшая античность до своего заката успела пройти все циклы развития, которые должен пройти заново, но пока еще не прошел Запад. Все свидетельствует о том, что к системе Гегеля следует подходить критически. Тем не менее, в ней все же заложена и очевидная методологическая новизна. Так, констатируя колоссальное воздействие Гегеля на историческое познание, Ж. Базен усматривает это его позитивное воздействие и на историков искусства. «Взращенные гегелевской диалектикой историки искусства – пишет она – порвали со ставшим уже своего рода каноном постулатом о якобы непревзойденном совершенстве античного искусства: понемногу они приучаются видеть в истории искусства эволюцию форм, суть которой заключается в чередовании снимающих один другого стилей» [32].
Собственно, именно такую операцию – прослеживание смены стилей в истории искусства и предлагает Г. Вельфлин. Не солидаризируясь с временными аспектами системы Гегеля, попробуем все же понять конструктивность его мысли, прибегая к тому, что в последнее время под воздействием семиотики привычно называть языком и кодом культуры. Применительно к Гегелю речь может идти о языке и коде западной культуры. Однако, как уже вытекает из сказанного, в соответствии с этим языком и кодом можно осмыслить и все остальные культуры. Но важен сам принцип языка и кода, который может быть приложим к семиотической стихии любой культуры.
Как известно, весь длительный путь Духа Гегель делит на три основных фазы – символическую, классическую и романтическую. Если у него символическая фаза получает выражение в культуре Востока, то классическая, т.е. самая совершенная и гармоничная проявляет себя в античности. Такая постановка вопроса у Гегеля явно возникла под влиянием Винкельмана, в чем cам Гегель признается. Так, приступая к анализу скульптуры как определяющего вида искусства в античности, Гегель призывает следовать в ее оценке Винкельману. «Обращаясь теперь к более конкретному рассмотрению главных моментов, имеющих значение в идеальном скульптурном облике, – пишет он, – мы будем в основном следовать Винкельману, который с величайшим пониманием и чрезвычайно удачно показал особые формы и тот способ, которым они разрабатывались и воплощались греческими художниками так, что их статуи могут быть признаны идеалом скульптуры» [33].
Что же касается третьей и последней фазы, то, по мысли Гегеля, наиболее совершенный вариант ее реализации демонстрирует Запад. Чтобы понять культурологический смысл этой философской операции Гегеля, необходимо выявить принцип, оказывающийся в основе каждой фазы истории. Этот принцип один для всех фаз без исключения. Это соотношение Духа, который можно отождествить с идеей или смыслом, и его внешней формой выражения. Создается впечатление, что Гегель воспользовался платоновской формулой соотношения чувственно-предметной реальности и идеи или эйдоса. Только у Платона эта формула существует вне времени. Гегель же этот механизм рассматривает в соответствии с принципом историзма, как он его понимает. Идея у него то сближается с чувственно-предметной реальностью, способной вызвать у Платона лишь презрение (поскольку она у него ассоциируется с чем-то низменным, неодухотворенным, диким и варварским), то дистанцируется от этой реальности, обособляясь от нее, и существует самостоятельно. Вообще, у него идея так и остается в своей отрешенности и отъединенности от внешнего мира. С этого она начинает и этим заканчивает. Такие соприкосновения этих двух миров – чувственного и идеационального возникают в момент творчества, когда идея, соединяясь с чувственной и телесной реальностью, одухотворяет ее и придает ей смысл.
Здесь невозможно не отметить, что когда А. Лосев дает формулировку предмета эстетики, он в его конструировании исходит именно из этих отношений между внутренним содержанием и внешним его выражением. «Эстетическое как нечто выразительное, – пишет А. Лосев, – представляет собой диалектическое единство внутреннего и внешнего, выражаемого и выражающего, и притом такое единство, которое переживается как некоторая самостоятельная данность, как объект бескорыстного созерцания» [34]. Нельзя не отметить в связи с этим, что такое определение эстетического явно заимствовано из гегелевской системы эстетики. Так, что в философском подходе к истории искусства Гегель обнаружил самое главное, что будет определять не только эстетику в ее исторической эволюции, но и историю искусства.
Под философским концептом Гегеля – Духом следует понимать именно идею в платоновском понимании. Однако новаторство Гегеля заключается в том, что моменты соприкосновения внешней реальности и идеи он пытался понять исторически. Дух Гегеля не пребывает в своей статической форме, как эйдос Платона, а развивается, что Гегель и делает предметом истории, в том числе, истории искусства в больших длительностях времени. Такое соприкосновение способно породить гармонические художественные формы. Однако для того, чтобы достичь гармонии, не обходимо, чтобы, развиваясь, Дух обрел понимание себя самого, чтобы возникло не только сознание, но и самосознание. Но это может произойти лишь во времени. Но это время растягивается на столетия. Вершиной этой эволюции является время Гегеля, т.е. время Просвещения на Западе как очередного после Ренессанса расцвета западной культуры. Все же остальное, в том числе, и античность, не говоря уже о Востоке, лишь движение к этому пику и триумфу.
Для того чтобы в истории возникла совершенная и гармоничная форма, необходимо отдавать отчет в определенности смысла и найти те явления предметно-чувственного мира, которые бы исполнили роль языка или включились в коммуникацию. Но это еще не художественный язык. Для этого Дух должен выйти из природы и обрести по отношению к миру хотя бы некоторую самостоятельность. Однако этой гармонии, этого полного совпадения на ранних стадиях становления Духа достичь невозможно. Поэтому для передачи смысла используются обычные явления предметно-чувственного мира, что очень напоминает художественное мышление, не являясь им. Но чтобы их можно было использовать в функции языка, в них следует вкладывать какой-то смысл. Но присутствие смысла можно ощутить лишь в том случае, если явление предметно-чувственного мира удастся, как выражались представители «формальной школы», «остранить», т.е. изъять из привычных, естественных связей, во-первых, и подвергнуть деформации, например, увеличить в масштабах, как это можно, например, наблюдать в египетской скульптуре, во-вторых.
Употребляя применительно к ранней фазе становления Духа понятие языка, мы, однако, понимаем, что это модернизация и интерпретация идей Гегеля. Никаких ограничений и норм, которые обязательны в языке, пока не существует. В явления вкладываются какие-то неопределенные и, хочется сказать, субъективные смыслы, хотя, конечно, ни о какой субъективности применительно к архаических культурам говорить не приходится, поскольку индивид в них существует как часть некоего коллективного целого, например, сообщества, объединяющегося вокруг тотема. Один и тот же предмет может выражать разные смыслы. Какой-то определенный смысл за предметом не закрепляется. Но и тот смысл, которым предмет наделяется, приобретает пока туманный, непрозрачный смысл. Вообще, такая форма мышления очень напоминает стихию искусства, т.е. художественное, образное мышление, если ее сравнить с языковой стихией. Впрочем, ее ведь и сравнивали. И не только сравнивали, но и вдохновлялись аналогиями искусства и языка. Собственно, именно этим и знаменита «формальная школа». В языке знаковость ощущается в своем предельном выражении. Из этой стихии знаковости язык выводит только поэзия, возвращающая к образности, к предметно-чувственной стихии. Конечно, искусство тоже способно осуществлять функции знаковой системы.
В 1960-70-е годы московско-тартуская школа продемонстрировала такую возможность. Тем не менее, искусство в своей знаковой функции существует именно так, как это представляет Гегель, имея в виду символическую форму в становлении Духа, в которой есть одно означающее, но множество сопровождающих его означаемых, что собственно сводит к минимуму язык. Так Гегель признает, что определенность смысла символа проблематична, поскольку «один и тот же образ благодаря более отдаленным ассоциациям может употребляться в качестве символа нескольких значений» [35]. В качестве иллюстрации этого Гегель указывает опять же на искусство Востока. «Вступая в мир древнеперсидских, индийских, египетских образов и созданий, мы чувствуем себя сначала не по себе; мы чувствуем, что странствуем посреди каких-то задач. Сами по себе эти создания нас не привлекают, непосредственное созерцание их не доставляет нам удовольствие и не удовлетворяет нас; они сами как бы требуют от нас, чтобы мы перешагнули через них и пошли дальше, к их смыслу, который есть нечто более широкое, более глубокое, чем эти образы» [36]. Имея в виду эти трудности восприятия египетского искусства, Гегель пишет, что «по египетским произведениям искусства видно, что они содержат в себе загадки, правильная разгадка которых не удается не только нам, но большей частью и тем, которые сами себе их задавали» [37].
Например, в символической форме для выражения идеи божества употребляются животные. Почему? Видимо, потому, что бог ассоциируется не только с мудростью, справедливостью, но и с жестокостью и силой. Сила есть нечто, что не соотносимо с обычным человеком. Чем больше силы, тем очевидней дистанция между божеством и человеком. Так бог становится носителем сверхчеловеческой силы. Дело доходит до того, что в архаических изображениях некоторые фигуры представляют совмещение образов животного и человека. В этом смысле убедительной иллюстрацией является египетское искусство. Так, в некоторых образах египетского искусства человеческие фигуры соединены с головами львов, ястребов или деталями, намекающими на других животных, например, на изображениях головы Амона видны рога и т.д. Вот этот смысл – сила вкладывается в изображение, а точнее, в образ бога, хотя, конечно, сила является лишь одним из признаков божества, не исчерпывающих его смысла.
Собственно, все нами перечисленное в гегелевской феноменологии характерно для первой фазы становления Духа. Эту фазу Гегель называет символической фазой. Конечно, это несовершенная фаза. Это лишь многочисленные и разные попытки обретения определенности и ясности в структурах познания, мышления и коммуникации. Главное в этой фазе – расхождение между смыслом и явлением. Хотя точнее было бы сказать: не расхождение, а невозможность объединения как идеального состояния, к которому история будет двигаться. Чтобы слияние между ними произошло, дух должен, прежде всего, осознать себя и более четко представлять смыслы, вкладываемые им в явления внешней реальности. Такое расхождение неудобно. Его следует преодолеть. Это только движение к оптимальной ситуации, когда появятся идеальные формы, и телесно- чувственное начало будет гармоничным выражением Духа. По Гегелю эта гармония будет достигнута и закрепится лишь на следующем этапе истории, а именно, в античности. Собственно, эту фазу в становлении Духа Гегель назовет классической.
Описание этой фазы у Гегеля несет печать винкельмановского восторга перед классической эпохой античности. Животные в классической форме уже не будут выражать идею божества. Идея бога получит выражение в образе человека. Конечно, образы животных из античной пластики не исчезнут, но они могут лишь сопровождать богов и культурных героев, исполняя функцию косвенной о них информации. Так, имея в виду уже следующую форму искусства – классическую, Гегель говорит об использовании в ней образов животных как второстепенных символических деталей. «То, что еще остается в упомянутом виде художественного изображения как действительно символический намек или как аллегория, – пишет Гегель, – касается второстепенных деталей и явно низводится самим художником на степень простого атрибута и знака, как, например, орел, сидящий возле Зевса, и был, сопровождающий евангелиста Луку, – между тем, как египтяне верили, что созерцают в Аписе само божество» [38].
В греческой пластике образы богов сходны с образами людей и наоборот. Лишь в человеческом образе художник обнаруживает гармонию между внешним, телесным, чувственным, с одной стороны, и смыслом, идеей, Духом, с другой. Наконец-то, как пытается показать Гегель, человечество нашло идеальную форму, в которой дух объединился с чувственным миром, и в чувственных явлениях нашел свое идеальное выражение. Здесь внутренне не противостоит внешнему, т.е. чувственному, как это имеет место в символической форме, а через него получает свое адекватное выражение. Эта особенность не объясняется лишь индивидуальными дарованиями Фидия, Праксителя или Скопаса. Все зависит от определенной стадии в становлении культуры. Иначе говоря, это как раз то, что уже было открыто в античности Квинтилианом, рефлексия которого послужила истоком будущей истории искусства и от чего, как утверждает Гете, отталкивался Винкельман.
Триумф античной скульптуры, демонстрирующей гармонию внутреннего и внешнего, связан с тем этапом истории культуры, когда личность уже обособилась, ощутила свою самостоятельность, но высшего пика в своем развитии еще не успела достигнуть. В античности имел место также удивительный феномен, связанный с продвижением искусства к обретению самостоятельности и, соответственно, его разрыву с религией. Но нельзя не ощутить в нем того, что, находя в богах человеческое начало, именно греческие художники, собственно, и вызвали к жизни образы языческих богов. В данном случае, очевидно, что в своем утверждении религия просто не могла обойтись без искусства. Так, Гегель напоминает о суждении Геродота по поводу того, что греческих богов создали Гомер и Гесиод. Хотя многое свидетельствует о том, что греческие боги имеют египетское и финикийское происхождение, все же окончательную и истинную форму они приобрели в результате свободного преобразования греческих поэтов и художников [39]. В другом месте Гегель говорит, что греки верили в том, что сотворили богов именно поэты [40].
Чем дальше развивается история, тем становится все очевидней, что классическая стадия для Духа не была ни окончательной, ни последней. В самом деле, А. Лосев писал, что античность впервые открывает индивидуальное начало, но это еще не означает, что история духовного развития человечества на этом останавливается. Подлинное раскрытие личного начала произойдет лишь на основе христианского учения, т.е. в западной культуре. То, какие формы примет индивидуально-личное начало в христианской культуре, далеко превосходит то, что имело место в языческом мире [41]. Классическая фаза и в самом деле – лишь одна из фаз в становлении Духа, которую можно в определенном смысле назвать переходной. Если на символической фазе Дух пребывал в напряжении, пытаясь постичь, что он есть такое и в каких чувственных формах выразить свою субъективность, не достигая при этом идеальной формы, то на последующей фазе – уже не классической, Дух начинает томиться от того, что его внешние формы кажутся неистинными и его чистоте не соответствующими. Он хотел бы отрешиться от предметно-чувственных форм, с помощью которых он пытался выразить себя, обрести самостоятельность и самоценность.
Это томление Духа является содержанием следующей фазы – романтической. Романтической по Гегелю не в смысле романтизма начала ХIХ века. Для Гегеля границы романтической фазы – это границы христианской цивилизации. Исходной точкой романтической фазы будет Средневековье, а вообще время возникновения и распространения христианства. Но, конечно, в эту фазу вписывается и то, что привычно подразумевать под временем Гельдерлина, Новалиса и Шлегелей, которые, кстати, так идеализировали Средневековье. Ясно, что если классическая гармоническая фаза превратила в предпочитаемый вид искусства пластику и, еще точнее, скульптуру, то романтическая фаза откроет для себя выразительные возможности живописи, поэзии и в еще большей степени музыки. Понятно, что если пользоваться критериями, утвержденными в эпоху классической фазы, то многие характерные для романтической фазы явления могут оцениваться в критическом духе. Именно в живописи, поэзии и музыке субъективность, высшая форма которой в античности еще не была достигнута, получит исчерпывающее выражение.
В самом деле, как известно, для античности, т.е. для классической фазы, например, очень много значит понятие мимесиса, т.е. подражания искусства чувственно-предметному миру, предполагающего его воспроизведение и воссоздание. Собственно, идея мимесиса, столь значимая для эстетики на всем протяжении ее истории, была выдвинута именно античными философами. Для греков это было чрезвычайно значимым открытием, во многом объясняемым разрывом чувственного со сверхчувственным, что, кстати, ускользает от Винкельмана. Когда Гегель характеризует символическую фазу, он нигде не говорит о сверхчувственном и о связи символического мышления со сверхчувственным. Между тем, это существенно и особенно существенно для понимания того, почему для греков мимесис оказался чрезвычайно значимым понятием, многое в искусстве, но, в том числе, и в религии определяющим. Ведь не только в искусстве, но и в религии – как языческой, так и христианской – воспроизведение, воссоздание, изображение очень многое значит.
Мимесис – это явление, ставшее возможным при переходе от символической к классической фазе. Более того, это явление, чрезвычайно значимое для того этапа в истории становления классической фазы, когда восприятие мира освобождается от сверхчувственных и сакральных смыслов. Это то, что первоначально появится в античности в классическую эпоху и что во второй раз возникнет в эпоху Ренессанса. Этот разрыв чувственного со сверхчувственным возникает в эпоху расцвета философии и, как всегда это бывает, кризиса религии. Но не только философии, а, например, театра, знаменитой античной драмы. «Античное Средневековье», если пользоваться понятием «Средние века» уже не только применительно к Западу, но и к Греции, еще погружено в мифологию как способ выражения сверхчувственного. Драма рождается и, кстати, получает развитие всего в течение какого-то столетия лишь на том этапе, когда сверхчувственное начинает иссякать.
Вместе с иссяканием сверхчувственного иссякает и стихия мифологии, которая, собственно, и питала порождения, возможные на символической фазе. А. Кребер пишет, что длительное время искусство еще не проявляет самостоятельности и целиком оказывается зависимым от религии. «После более или менее долгого ученичества, – пишет Кребер, – оно обретает профессионализм и развивает собственные способности, но продолжает находиться в состоянии зависимости. Кульминация в искусстве наступает чаще всего тогда, когда оно в основном достигает автономии и свободно преследует собственные цели, однако еще платит немалую дань прежней хозяйке. Еще несколько поколений светского существования – и оно становится слишком профанным» [42]. Приводя пример из истории Запада и Востока, он такой момент находит Ренессансе, но, в том числе, и в античности. То мгновение, когда искусство уже выходит из религии, но еще и не успевает стать совершенно светским, оказывается необычайно для него благоприятным. Так, в Греции до 600 года до н. э. религия была еще достаточно сильной. «После 600 года, когда начали набирать силу наука и философия, – пишет Кребер, – влияние религии на греческий мир неуклонно снижалось. Когда же наука и философия прошли свою активную фазу, религия вновь заняла важное место в жизни греков – вплоть до появления неоплатонизма, попытавшегося оживить философию, придав ей религиозную мотивацию» [43].
Рождению греческой драмы и театра человечество обязано разрыву чувственного и сверхчувственного, что язычники воспринимали с таким восторгом и трепетом. Вот этот восторг, это удивление перед тем, что предметом изображения впервые становится привычный человеческий, видимый мир людей с присущими ему страстями и переживаниями. Это и сделало театр в Греции столь востребованным. Восторг был спровоцирован еще и тем, что в этом узнаваемом и повседневном мире действуют уже не боги и культурные герои, от действий которых зависит состояние не только людей, но и космоса. Он был следствием того, что человеческое отделяется и от природного, космического, но, в том числе, и от религиозного, сакрального. Оказывается, человек способен действовать самостоятельно, хотя и не всегда разумно, что и приводит к трагической вине героя. В конечном счете, самостоятельность героя является мнимой, поскольку, как окажется, над всем царит воля богов, правда, эта воля уже слабеет. Над всем, в том числе, и над богами торжествует фатум, рок, судьба.
Представляя античную личность свободной и уподобляя ее актеру, А. Лосев замечает, что античный человек чувствовал себя свободным актером, но изображающим не себя самого, а играющим ту роль, которая ему преподана судьбой. «Как актер, играющий роль в космической театральной постановке, человек вполне свободен, – пишет А. Лосев. – Но сама-то театральная постановка и всего человечества и всего космоса придумана вовсе не отдельным человеком, и не людьми в целом, и даже не космосом, но только судьбой, надчеловеческой и надкосмической» [44]. Но, несмотря на это, разрыв все же совершился – индивид уже начинает действовать самостоятельно. Этот прорыв оказался значимым и для философии, ведь, собственно, тот поворот к этическим проблемам, который происходит с Сократа и в эпоху Сократа, как раз и является следствием открытия человека, ставшего не только простым подобием бога. Выясняется, что сам бог уже предстает в образе человека, что и запечатлела столь замечательная античная скульптура.
Но этот прорыв в новую философию и в драму, законы которой впервые сформулированы Аристотелем, явился следствием разрыва чувственного со сверхчувственным, освобождением чувственного от сверхчувственного. Потом, в следующий раз в истории этот разрыв произойдет в истории западной культуры. Начало этого разрыва необходимо усматривать в Ренессансе. Этот разрыв также воспринимался оптимистически, хотя ведь именно он приближал кризис секулярной, светской культуры и, собственно, уже позволял говорить о приближении эпохи цивилизации в шпенглеровском смысле. Это и ощутил в конце ХIХ века Ф. Ницше, впервые позволивший себе провести параллель между закатом античного мира и кризисом западного мира.
Поскольку с Ренессанса начинается новый – секулярный период в истории, то снова становится актуальными те формы и те понятия о них, которые впервые возникли в античности. В том числе, и понятие мимесиса, который в классической эстетике стал ключевым понятием. По сути, этот разрыв чувственного со сверхчувственным свидетельствует об угасании того, что П. Сорокин называет культурой идеационального типа со свойственным этой культуре сверхчувственным началом и о реальности становления альтернативной культуры, называемой им культурой чувственного типа.
(окончание в следующем номере)
ПРИМЕЧАНИЯ
[22] Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней. М.: Прогресс-Культура, 1995. С. 137.
[23] Дворжак М. История искусства как история Духа. СПб.: Академический проект, 2001.
[24] Кребер А. Избранное: Природа культуры. М.: РОССПЭН, 2004. С. 905.
[25] Там же. С. 904.
[26] Леонтьев К. Византинизм и славянство // Восток, Россия и славянство. Т. 1. М.: Типо-литография И.Н.Кушнарева, 1885. С. 89.
[27] Гомбрих Э. История искусства. М.: Искусство – XXI век, 2013. С. 202.
[28] Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М.: Прогресс-Традиция, 2002. С. 35.
[29] Базен Ж. Указ. соч. С. 157.
[30] Гегель Г. В.Ф. Эстетика. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1969. С. 225.
[31] Базен Ж. Указ. соч. С. 129.
[32] Там же. С. 403.
[33] Гегель Г. В.Ф. Эстетика. Т. 3. М.: Советская энциклопедия, 1971. С. 121.
[34] Лосев А.Ф. Эстетика // Философская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1970. С. 570.
[35] Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т. 2. С. 16.
[36] Там же. С. 19.
[37] Там же. С. 71,
[38] Там же. С. 24.
[39] Там же. С. 189.
[40] Там же. С. 210.
[41] Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Т. 1. М.: Искусство, 1992. С. 83.
[42] Кребер А. Указ. соч. С. 741.
[43] Там же. С. 742.
[44] Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Т. 2. М.: Искусство, 1994. С. 506.
© Хренов Н.А., 2015
Статья поступила в редакцию 15 февраля 2015 г.
Хренов Николай Андреевич,
доктор философских наук, профессор,
заместитель директора по научной работе
Государственного института искусствознания
Министерства культуры РФ.
e-mail: nihrenov@mail.ru

ISSN 2311-3723
Учредитель:
ООО Издательство «Согласие»
Издатель:
Научная ассоциация
исследователей культуры
№ государственной
регистрации ЭЛ № ФС 77 – 56414 от 11.12.2013
Журнал индексируется:
Выходит 4 раза в год только в электронном виде
Номер готовили:
Главный редактор
А.Я. Флиер
Шеф-редактор
Т.В. Глазкова
Руководитель IT-центра
А.В. Лукьянов
Наш баннер:

Наш e-mail:
cultschool@gmail.com
НАШИ ПАРТНЁРЫ:
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Культуру культуры» обязательна.
© Научная ассоциация исследователей культуры, 2014-2024







