НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Научное рецензируемое периодическое электронное издание
Выходит с 2014 г.

Гипотезы:
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Э.А. Орлова. Антропологические основания научного познания
Дискуссии:
В ПОИСКЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (рубрика А.Я. Флиера)
А.В. Костина, А.Я. Флиер. Тернарная функциональная модель культуры (продолжение)
Н.А. Хренов. Русская культура рубежа XIX–XX вв.: гностический «ренессанс» в контексте символизма (продолжение)
В.М. Розин. Некоторые особенности современного искусства
В.И. Ионесов. Память вещи в образах и сюжетах культурной интроспекции
Аналитика:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
А.Я. Флиер. Социально-организационные функции культуры
М.И. Козьякова. Античный космос и его эволюция: ритуал, зрелище, развлечение
Н.А. Хренов. Спустя столетие: трагический опыт советской культуры (продолжение)
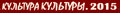

Н.А. Хренов
методологический и исторический аспекты (начало)
Аннотация: В статье автор, опираясь на суждения многочисленных философов и ученых прошлого, излагает свою трактовку культурологии как современного «искусствознания без имен», что интерпретируется с позиций разделяемого им циклического понимания истории и культурной динамики. Обосновывается авторский взгляд на искусство как основную историческую и социальную форму культуры.
Ключевые слова: Культура, искусство, история, культурология, искусствознание, общество как продукт культуры, переходный период.
1. Взаимоотношения между искусствознанием и культурологией: взгляд историка
Когда возникает вопрос о взаимоотношениях искусствознания с культурологией, неизбежно оказывается актуальным и следующий вопрос: искусствознание, как, впрочем, и культурология какого периода имеется в виду? Этот второй вопрос кажется странным и неуместным, когда речь идет о науке. Наука или есть или ее нет. Каждая наука имеет свой специфический предмет исследования. Этого и следует придерживаться. Но, как быть, когда предмет науки не осознается сразу во всех своих аспектах? Это происходит лишь во времени. Поэтому становление каждой науки следует рассматривать исторически.
Более того, движение к более полному и исчерпывающему пониманию предмета науки зависит от разных, возникающих в истории ситуаций. Все науки, не исключая и те, названия которых вынесены в название, находятся в постоянном движении, развитии. Смысл этого развития сводится к возникающим в истории новым граням предмета каждой науки. Необычайно острым этот вопрос оказывается для вновь возникающих наук, которые долгое время еще не обретают исчерпывающего и четкого определения своего предмета. В этом смысле особенно показательна история с культурологией, которую наше поколение может наблюдать. Поскольку это так, то представления о предмете множатся, как, впрочем, множатся и определения науки. В такой ситуации находится сегодня наука о культуре с сопутствующими ей многочисленными определениями и сопутствующими ее становлению многочисленными дискуссиями. Если бы это было не так, то мы бы не сталкивались с множеством определений культуры. Сегодня мы можем наблюдать, как наука о культуре раздваивается: один ее вариант соотносим с гуманитарными науками и это характерно, например, для рефлексии М. Бахтина, другой вдохновляется естественными науками, и его можно иллюстрировать существующими работами Э. Маркаряна.
В такой же полосе неопределенности иногда оказываются и науки, история которых началась давно. К такой науке относится искусствознание. Предмет можно обрести, но представление о нем можно и утерять. Нечто подобное сегодня происходит с искусствознанием, активно заимствующим из других наук различные подходы и приемы [1]. Так, например, в ХХ веке искусствознание пережило две волны увлечения социологической методологией, в 1920-е и в 1960-е годы. Но, собственно, было ли искусствознание в истории всегда единым? Как утверждает научный сотрудник Лувра Ж. Базен, искусствознание всегда существовало в двух вариантах: в одном, где внимание было приковано к особенностям каждого произведения (и искусствоведы, придерживаясь этой позиции, были тесно связаны с музеями), и в другом, связанном с поисками общих закономерностей развития искусства в истории. Этот последний вариант подпитывался идеями, имевшими место в философии и в философии искусства или эстетике, как, впрочем, и другими науками. Например, в ХХ веке филологией, лингвистикой, семиотикой, психологией и т.д. Эта разновидность истории искусства как науки была связана не с музеями, а с университетами [2].
Так случилось, что представители той разновидности истории искусства, что связаны с музеями, породили представление, что именно они и являются настоящими исследователями искусства. «Работники музеев, чья жизнь протекает в тесном контакте с произведениями искусства, – пишет Ж. Базен – имеют склонность считать себя единственными настоящими знатоками искусства: поэтому для них ученые доклады университетских профессоров представляются делом достаточно бесплодным» [3]. Этот сектантский комплекс искусствоведа срабатывает до сих пор. И, кстати сказать, именно он проявляется в эпоху становления культурологии как науки, что осмыслению взаимодействия между искусствознанием и культурологией не всегда способствует. Что делать, в истории культуры было время, когда в эпоху расцвета философии и бурного становления эстетики имело место пренебрежительное отношение к историкам искусства со стороны эстетиков, читающих лекции в университетах [4]. Однако с тех пор эмпирическая история искусства как наука достигла значительных успехов, и уже не эстетики смотрят сверху вниз на историков искусства, а наоборот.
Что же касается самого искусства, то его длительная история свидетельствует о том, что найти его единственное определение весьма не просто. Оно то нагружалось самыми разными функциями (культовыми, социальными, психологическими, коммуникативными и т.д.), то стремилось от них освободиться и стать абсолютно чистым. В связи с этим предмет искусствознания то необычайно расширялся, то сужался. Так, например, в ХХ веке в эволюции художественного процесса можно констатировать последовательное появление, как минимум, четырех тенденций: ориентация на чистое искусство, что получило выражение в формализме и постмодернизме, для которого характерна такая же направленность, и – далее – ориентация на государственное служение, ориентация на утверждение нравственности и ориентация на религиозное возрождение.
Употребляя понятие «искусствознание», мы отдаем отчет в его расплывчатости и неопределенности. На самом деле, оно предстает в виде, как минимум, трех дисциплин – теории искусства, истории искусства и художественной критики [5], каждая из которых имеет особую историю. Поскольку с самого начала мы ставим вопрос о функционировании искусствознания в истории, то для нас наиболее значимым оказывается исторический вариант искусствознания или история искусства. Чтобы иметь возможность поставить вопрос о взаимоотношениях искусствознания и науки о культуре, мы не избежим выявления представлений о предмете истории искусства, которые не были статичными. Прослеживая динамику в возникновении и смене этих представлений, мы обязаны улавливать изменения в этих представлениях, развертывающихся под воздействием других, рождающихся или переживающих стадию подъема дисциплин.
Таким образом, из всех возможных ракурсов рассмотрения взаимоотношений между искусствознанием и культурологией мы избираем исторический подход. Акцент мы ставим на том, как постепенно, на протяжении последних столетий формируется культурологическая рефлексия, что стимулирует и что препятствует ее становлению. Для нас же самым главным будет выявление моментов, свидетельствующих о проникновении рефлексии этого рода в сознание историков искусства. Разумеется, подчас случайное и даже неосознаваемое. К культурологическому аспекту изучения искусства человечество приходит очень поздно, когда история искусства уже успела сделать значительные успехи и окончательно определиться. Нам важно проследить, что нового возникло в этой почтенной дисциплине в момент, когда возникает культурология и начинает влиять на методологию историка искусства.
Правда, здесь закономерна и иная точка зрения. А может быть, возникающая культурология что-то способна взять и у искусствоведов. Если культурология в предшествующие столетия не существовала, то обсуждение проблем, для нее специфичных, могло происходить на уровне истории искусства. О том, что к началу ХХ века многое в истории искусства уже определилось, свидетельствует появление многих трудов в этом направлении. Так, в начале ХХ века в России начал реализовываться проект истории русского искусства, которым мы обязаны И. Грабарю [6]. Хотелось бы показать, что потребность искусствоведа в культурологии постепенно определяется в связи с возникшими в науке внутренними процессами, которые, в свою очередь, являются следствием процессов художественной жизни. Но эта потребность возникает достаточно поздно. До того, как такая потребность определится, история искусства должна была пережить определенные шаги в выявлении все новых аспектов своего предмета.
2. Ранний этап в становлении истории искусства.
Факторы, способствующие возникновению этой дисциплины
Но сначала необходимо сказать о ранних этапах становления собственно истории искусства. Чтобы это продемонстрировать, приведем некоторые примеры. Наиболее ранним этапом в становлении истории искусства был Ренессанс. Как известно, отцом истории искусства стал Джорджо Вазари. С ним и связано одно из первых представлений о предмете истории искусства. Таким предметом стал художник, личность художника, а, еще точнее, биография художника. Так возникает первое и более или менее определившееся представление о предмете. Раз определился предмет, то можно утверждать, что появилась и новая наука, которой раньше не было. Акцент был сделан на творческих индивидуальностях. Это не удивительно. Почему же история искусства как наука появляется лишь в эпоху Ренессанса, а не раньше или позже? Да потому, что этому предшествовали сдвиги в самом искусстве, которые, конечно же, были следствием сдвигов в самой культуре и прежде всего в представлениях о личности. Это произошло в эпоху Ренессанса. Впервые в истории искусства возникает Автор.
Значение этого факта важно, если сопоставить статус художника в средние века со статусом художника в эпоху Ренессанса. В средние века живопись существовала, но художник был членом цеха ремесленников. Он был анонимным. Имена средневековых художников чаще всего неизвестны. Иное дело – Ренессанс, когда художник выходит за пределы цеха. Он становится свободным, точнее, профессионалом. Художественная деятельность обособляется от других форм ремесленной деятельности. Развертывается профессионализация художественной деятельности. Как следствие этого возникает новая форма организации художников. Цехи сменяются академиями. Академия – новая форма консолидации профессионалов. Но, кроме всего прочего, академия осуществляет в сфере искусства функцию профессионального образования. Так искусство в большей степени начинает функционировать как институт, в котором можно выделить подинституты. Такая новая структура как академия означает подинститут воспитания и образования в системе искусства как института. Возникает институционализация искусства.
Но раз возникает новая форма функционирования искусства, т.е. функционирование его как института, то можно уже ставить вопрос о социальных функциях этого института. Это обстоятельство требует от историка искусства какой-то реакции. Однако значимость этого обстоятельства по-настоящему будет осознана позднее, когда появится социология искусства. Но уже в Ренессансе рождаются предпосылки социологического подхода по отношению к искусству. Долгое время эта возможность еще не реализуется. Дело не только в том, что пока не появилась наука, которая помогла бы это осознать. Такая возможность реализуется лишь в границах того типа общества, которое называют индустриальным или массовым, т.е. приблизительно с XVIII века. Когда публика искусства становится массовой, а точнее, когда публикой становится все общество, а это как раз произойдет в создаваемом третьим сословием индустриальном обществе, и когда меценатство уже не может служить исчерпывающей формой поддержки искусства. А ведь в эпоху Ренессанса искусство поддерживалось меценатами. Герцоги, вроде Медичи, и были меценатами.
Так, возникает потребность уже в государственной художественной политике, что становится реальностью ХIХ и ХХ веков. Хотя очевидно, что с этим столкнулись в античной культуре уже полисы – государства в эпоху возникновения демократии. Массы требовали зрелищ, и государство вынуждено было вызывать к жизни театрально-зрелищные формы, заниматься организацией и экономикой и их финансированием. Иначе говоря, становление институционализации искусства потребовало и осознаваемой культурной политики. Когда к ХIХ веку массовое общество становится реальностью, выясняется, что сложившихся в эпоху Ренессанса представлений об искусстве в границах рождающей истории искусства как научной дисциплины, недостаточно. Именно тогда вспомнили, что, оказывается, представления об искусстве в античной культуре были более широкими, нежели в Ренессансе. Уже тогда возникла необходимость в фиксации в искусстве таких граней, которые способна объяснить лишь социология. Но поскольку этой науки еще не существовало, за дело взялись философы. Уже у Платона можно обнаружить постановку вопроса об искусстве как институте, о социальных функциях искусства и даже о культурной политике государства [7]. Так что именно Платона следует считать отцом социологического подхода по отношению к искусству, который в эпоху О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма и И. Тэна оказывается весьма востребованным.
3. Какой век является исходной точкой культурологической рефлексии: ХVIII или ХIХ?
Касаясь социологического подхода к искусству, мы не отклоняемся ни от искусствоведческого, ни от культурологического подходов. Наоборот, постепенно приближаемся к выявлению их взаимоотношений. Дело в том, что в ХIХ веке начинает приоткрываться та истина, что, оказывается, некоторые эпохи истории античного мира удивительно напоминают ситуации, имеющие место на Западе нового времени. Первому мысль о совпадении приходит в голову Ф. Ницше, обозначившему это совпадение как вечное возвращение. Позднее, уже в начале ХХ века это прозрение Ф. Ницше разовьет О. Шпенглер, учитывая открытия в социологии и в еще большей степени в биологии ХХ века. Шпенглеровская концепция несет на себе следы влияния как гуманитарных, так и естественных наук.
Происходит удивительная вещь. Первые прозрения о возможности культурологического подхода к искусству возникают вовсе не в наше время, когда о таком подходе говорят и пишут, подчас весьма в критическом духе. И даже не в ХХ веке, хотя постановка вопроса О. Шпенглером позволяет утверждать, что культурологический подход уже рождался в начале ХХ века и, кстати, тут же на него прореагировали историки искусства. В этом смысле работа одного из самых авторитетных отечественных историков искусства В. Лазарева целиком посвящена методологии О. Шпенглера в ее применении к истории искусства [8]. Мы не хотим утверждать, что истоком такого подхода является ХIХ век, хотя если это утверждать, то тут невозможно пройти мимо Ф. Ницше, с одной стороны, и Н. Данилевского, с другой. Тем более что О. Шпенглер признавал влияние на его концепцию идей Н. Данилевского. Однако ХIХ век все же был, может быть, более всего нечувствительным к вопросам культуры. Даже если и можно назвать в этом столетии некоторые идеи этого плана, то они оказываются маргинальными и невостребованными. Таким, собственно, и оказался Н. Данилевский, работа которого была на Западе опубликована уже после дискуссий, возникших в связи с выходом книги Шпенглера.
А вот что касается ХVIII века, то, пожалуй, как это ни покажется парадоксальным, именно этот век для прозрений культурологического характера оказался самым плодотворным. Именно в этом столетии впервые возникли идеи, которые будут подхвачены уже нашим временем. Достаточно здесь назвать хотя бы Гердера или Гёте, которые открывали разные культуры и, в частности, Восток и тем самым продолжали эстафету, подхваченную у гуманистов Ренессанса. Но именно они оказали влияние и на философскую, и теоретическую мысль романтиков, в том числе, отечественных, называемых, как известно, славянофилами. Что касается западной мысли, то открытие и значимость Востока для западной цивилизации связано не только с именами Гёте и Гердера, но, в особенности, с именем Шопенгауэра, разбудившего Ф. Ницше. Рефлексия славянофилов начинает обсуждение проблемы отношений России и Запада, которая порождает огромную литературу и оказывается актуальной вплоть до нашего времени. Без славянофилов не появился бы Н. Данилевский. Это, конечно, уже не социологическая, а именно культурологическая рефлексия, точнее, ее исток.
Тем не менее, несмотря на рождение «идеи» культуры в ХVIII веке (словосочетанием «идея культуры» мы обязаны В. Межуеву) и актуальность культурологического подхода уже в этом столетии, он в ХIХ веке не имел продолжения. Не имел, потому что императивы социальной истории науки оказались сильнее истории собственно науки. Прежде чем приблизиться к культуре как предмету исследования, необходимо было изжить все иллюзии, связанные с обществом и наукой об обществе. Переход от доиндустриальных к индустриальным обществам вызвал к жизни социологическую рефлексию, способную объяснить функционирование новых обществ. Необходимо было осознать поведение людей, утрачивающих связи с традиционными ценностями, но еще не обретающих новых, рождающихся в городах связей. Ведь социальная иерархия в быстро растущих городах не только ослаблялась, но и разрушалась. О том, что такое массовое сознание, приходилось размышлять не только Г. Лебону и З. Фрейду, но и Н. Михайловскому в России.
Переходная ситуация грозила привести к регрессу социума, и последующая история с ее революциями, террором, концлагерями и мировыми войнами начала демонстрировать регресс в варварство, регресс в ранние формы социума. Именно это и демонстрирует появление вождей и диктаторов. Однако какой бы расцвет социологии в ХIХ веке не происходил, эта наука все же не могла объяснить, каким должен быть порядок в новых обществах, о которых мечтали философы Просвещения и как этого порядка достигнуть. Разрушение традиционных обществ имело последствия, а именно, регресс в архаику. Революции спровоцировали регресс. Но понимание этого, естественно, приходит с запозданием. Осознание того, что социология не справляется с возлагаемыми на нее надеждами, приводит к необходимости поиск решения возникших в новых обществах противоречий связывать с другими науками. Так возникает потребность и необходимость вернуться к тем идеям, что возникли еще в ХVIII веке, но в последующую эпоху не получили продолжения. Это идеи, связанные с культурой и ее ролью в формировании и в поддержании разных форм социума.
Выяснялось, что нет просто истории социума. Социум существует не в вакууме. История есть не только история общества, но и история культуры. А культура имеет более длительную историю, нежели общество, и вообще развертывается в других ритмах. Общества могут возникать и исчезать, но все эти процессы развертываются в контексте более консервативной системы, т.е. культуры, которую эти процессы рождения и умирания обществ не всегда затрагивают. Благодаря культуре, преемственность в истории следует понимать уже в другом смысле. Иногда возникающие общества или общества, радикально обновляющиеся или перестраивающиеся, легкомысленно обращаются с культурой, будучи уверенными, что они способны порождать и создавать принципиально новую культуру. Но это кончается всегда осознанием зависимости общества от культуры. И вовсе не общество создает культуру, а культура создает общество. Именно культура является эффективным средством организации социума. Человек существует не только в социуме, но и в культуре.
А вот в эпоху востребованности социологической рефлексии эта зависимость социума от культуры оказывалась неочевидной. Коммуникация тоже развертывается в культуре. Основополагающие нормы социальности не являются столь изменчивыми. Между тем, в ситуации рождения массового общества с ними легкомысленно расставались. В этом состоит отличие культуры от социума, который способен к динамичному обновлению. Но, как выясняется, это динамичное обновление затрагивает и культуру, более того, часто является причиной ее разрушения. То разрушение культуры, что происходит в два последних столетия (особенно это касается России с ее попыткой реализовать социалистическую утопию), приводит вообще к ее иссяканию и исчезновению. Это обстоятельство тоже является решающим для активизации культурологической рефлексии, что сегодня очевидно в России. Активизация культурологических идей во многом спровоцирована разрушительными последствиями государственной политики в 1 половине ХХ века. Поэтому именно в России проблема культуры становится особенно актуальной.
4. Социология ХIХ века как косвенный способ постижения культурных процессов
до появления культурологии
Пока мы постарались показать востребованность той или иной науки в социальной истории. Очевидно, что культурология приходит на смену социологии, оказавшейся для адекватного объяснения функционирования социума бессильной. Мы не отвергаем огромного вклада социологии и в науку, и в познание функционирования общества и не только индустриального. Причем, не только социологии ХIХ, но и ХХ века. В данном случае социология потребовалась для того, чтобы объяснить, почему с некоторого времени культурология становится необходимостью и появляется возможность вернуться к ХVIII веку, подхватить те идеи, что в свое время казались маргинальными, и развить их. Эта необходимость не была осознана в ХIХ веке, когда решение ожидалось лишь от социологии. Культурология оказалась востребованной позже, с возникновением очередной переходной ситуации – от индустриальных к постиндустриальным обществам.
Но как будет функционировать общество нового типа, когда во многих странах оказались неразрешенными те проблемы, которые должны были решиться в эпоху индустриальных обществ? Это может спровоцировать новую волну архаики. Новая форма социума погружает человечество и в особые коммуникативные и экономические отношения, делающие культуру, а, точнее, традиционные ценности как основу культуры менее востребованными. Находясь во власти либеральных идеалов некоторые общества готовы отказаться от традиционных ценностей, демонстрируя такие проявления, которые возмущают цивилизации, продолжающие существовать на основе преимущественного функционирования традиционных ценностей. Это приводит к реальному столкновению цивилизаций. Рыночные механизмы, столь существенные в обществе потребления, провоцируют развитие таких явлений, которые с точки зрения традиционных культурных и религиозных ценностей неприемлемы. Сегодня у человечества нет другого выхода, как осмыслить все уникальные культурные организмы и понять, как они могут функционировать и взаимодействовать, избегая столкновений.
Сейчас наступает время поставить следующий вопрос: если новая наука – культурология появляется, то, как возникающие в ее границах представления способны влиять на искусствознание? Да и вообще возможно ли такое влияние? Стоит ли возлагать на эту науку серьезные надежды, когда мы говорим о нерешенных в искусствознании вопросах? Следует, во-первых, эти нерешенные в искусствознании вопросы назвать. Во-вторых, следует понять, а предполагает ли, способна ли предложить культурология такое разрешение проблем? Чтобы понять и проблемы искусствознания, и способности культурологии на них реагировать, необходимо снова прибегнуть к социологии, точнее, к сопоставлению возможностей и социологии, и культурологии.
Вернемся снова к Д. Вазари, точнее, к первому представлению о предмете истории искусства и к ранней методологии этой науки, которую принято связывать с биографическим методом, что означает сведение предмета истории искусства к создателю шедевров. Любопытно сейчас понять судьбу этого подхода на следующих стадиях искусствознания и проследить, отвергался ли этот метод или усложнялся? Какие подходы возникали по мере становления искусствознания как науки? Конечно, от постановки проблемы Д. Вазари никуда не уйти. Очевидно, что какие бы подходы ни использовались, от личности художника абстрагироваться невозможно. Поэтому в большей или меньшей степени ранние представления о предмете истории искусства продолжают существовать вплоть до сегодняшнего дня. В большей степени это касается искусствознания, которое, даже увлекаясь новыми методами, от биографического метода никогда не отказывалось.
Между тем, происходящие в массовых обществах процессы свидетельствовали о трансформации личностного начала в обществе, вернее, об утрате его и растворении в массе. Отношения в рождающихся индустриальных обществах между личностью и обществом развертывались так, что на первом месте оказывалось именно общество и развертывающееся на надиндивидуальном уровне процессы. Потому социология фиксировала именно надиндивидуальные процессы. Так, пытаясь сформулировать предмет социологии, Э. Дюркгейм ставил акцент на таких фактах, которые имели не индивидуальный, а коллективный смысл. То, как сознание индивида способно трансформироваться в массе, в конце ХIХ века блистательно продемонстрировал Г. Лебон, вызывая к жизни психологию масс как ответвление от социологии. Конечно же, культурология, которая будет интенсивно развиваться спустя столетия после социологических открытий ХIХ века, возьмется решать ту же проблему соотношения индивидуального и надиндивидуального.
Поскольку мы ставим совершенствование методологии истории искусства в зависимость, в том числе, и от культурологии, то нам не избежать выяснения того, как этот вопрос решался на уровне социологии. Спрашивается, если такая трансформация во время перехода от доиндустриального к индустриальному обществу человека в человека массы развертывается в ХIХ веке, то чем объяснить, что именно в этом столетии имеет место расцвет романа уже не в его авантюрных, а психологических формах? Ведь, как оказывается, литература не только не реагирует на эти процессы, но и отрицает их. Видимо, потому, что форма романа расцветает в самом начале процесса отчуждения личности от общества, когда в этом отчуждении крайняя точка еще не достигнута, и человечество еще полно оптимизма. Этот оптимизм объясняется не только восхождением, но и окончательным утверждением третьего сословия. Ощущение кризиса этого созидаемого бюргером общества еще не наступило, а А. Шопенгауэр еще некоторое время оставался маргинальным мыслителем. Это время привело на рубеже ХIХ-ХХ веков даже к отечественному варианту художественного ренессанса.
Но здесь как раз возникает вопрос: чему обязан упадок и подъем в истории – общественному оптимизму и благополучному обществу или декадансу и кризису общества? Но мы пока поставим только главный для нас в данной работе вопрос: что происходит с личностью в массовых обществах с сопровождающим их становлением культа машины, промышленности, технологии, финансов, политики, экономики и прочее? А происходит то, что фиксирует О. Мандельштам, объясняя, почему роман расцветает в ХIХ веке и почему в конце этого столетия наступает его угасание [9]. Все-таки и О. Мандельштам вынужден признать: личностное начало – не самый яркий признак современного ему общества. Человек все больше предстает человеком массы, а, следовательно, для него контекст массовой коммуникации становится более органичным, нежели контекст формы психологического романа.
Так что расцвет социологической науки в ХIХ веке есть следствие начавшейся деперсонализации. Проникающий в искусствознание социологический метод – не личная прихоть представителей социологии как науки, будь то Э. Дюркгейм или Г. Спенсер, а следствие основополагающих процессов в возникающих массовых обществах, в которых продолжаем существовать и мы. Поэтому, ассимилируя социологический подход, искусствознание демонстрирует приближение к осмыслению новых общественных процессов. Но, сближаясь с социологией, искусствознание какое-то время стремится и дистанцироваться от социологии, пытаясь сохранить возникшие еще в ХVIII веке представления об искусстве, для которых подход Д. Вазари все еще продолжал быть приемлемым.
5. История искусства в эпоху Просвещения:
И. Винкельман уточняет вариант истории искусства Д. Вазари
Однако в истории искусства как науке именно в ХVIII веке происходили и такие сдвиги, которые уже позволяли фиксировать уязвимые стороны биографического метода. Так, в ХVIII веке возникают новые представления о предмете истории искусства. Одно из таких представлений связано с успехами археологии, позволившей более предметно говорить об угаснувших эпохах в истории искусства. Это направление в науке связано с именем И. Винкельмана, может быть, именем наиболее известным. Точка зрения И. Винкельмана стала столь авторитетной, что ее придерживались даже Гёте и Гегель. Так, в статье, посвященной И. Винкельману, Гёте пытался понять, как от описания творчества конкретных художников И. Винкельман приходит к тому, что уже начинали открывать античные авторы, а именно: к истории искусства как особой науке. Он находит фрагмент такой науки, содержащий сжатый набросок древней истории искусств, у Квинтилиана. «Но так как невозможно долго и внимательно соприкасаться с произведениями искусства без того, чтобы не замечать, что они не только порождены различными художниками, но и различными эпохами и что страны и индивидуальные достоинства должны изучаться одновременно, – пишет Гёте, – то и Винкельман со свойственной ему прямотой решил, что здесь-то и проходит ось подлинного искусствоведения. Он обратился сперва к наивысшему, намереваясь его изложить в работе “О стиле скульптуры во времена Фидия”, но вскоре возвысился от единичного до идеи создания истории искусства и открыл, подобно новому Колумбу, давно вожделенную, чаянную и манящую, более того – уже ранее известную, но вновь утраченную землю» [10].
Этой популярности И. Винкельмана способствовали новые настроения и вкусы, а именно: усталость от пришедшего на смену строгим классическим ренессансным формам более раскованного и свободного стиля барокко, с одной стороны, подхватившего традицию готики, а, с другой, уже обещающего приближение романтизма. Пытаясь преодолеть усталость от барокко, в Европе снова возлюбили строгий классический стиль, что получило выражение в классицизме. Работы И. Винкельмана о пластике классической эпохи в античной культуре стали исключительно востребованными. Следующей, возникшей в это же время системой представлений является система Гегеля, возникшая на основе общих философских представлений. Следует сказать, что это, может быть, единственная система представлений в истории искусства, поражающая своей фундаментальностью. Не случайно университетская наука, когда она касалась искусства, опиралась именно на Гегеля, как и Винкельмана, т.е. на эстетику, поскольку история искусства как дисциплина пока в университетах не преподавалась. Не случайно гегелевская система стала одной из основополагающих основ еще одной рождающейся гуманитарной науки – философии искусства или эстетики.
Очевидно, что как система Винкельмана, так и система Гегеля далеко уводит от биографического метода Д. Вазари, расширяя контекст развития искусства и означая следующий шаг в распознавании более глубоких аспектов предмета искусствознания. Так, по мнению Гёте, Винкельман имел возможность оттолкнуться от тех прозрений об истории искусства, которые уже имелись у древних авторов, в частности, от их наблюдения о возвышении и падении искусства во времени. «Как бывалого человека, – пишет Гёте, – его больше всего занимает наблюдение, что они лишь очень короткое время удерживаются на той высшей точке, которой способны достигнуть. Со своей позиции он не мог рассматривать искусство в целом как нечто живое, обладающее своим незримым зарождением, медленным ростом, блистательной порой зрелости и постепенным нисхождением, как и всякое другое органическое существо, способное, однако показать все это лишь на примере множества индивидуумов» [11].
Предъявляя Д. Вазари претензии с точки зрения последующих стадий в становлении исторического знания об искусстве, нельзя, однако, забывать о том, что историк искусства может изучать искусство лишь на основе общих представлений об истории, т.е. на достижениях исторической науки. Но ведь такая наука в том ее состоянии, которое существует в ХХ веке, во времена Д. Вазари еще не существовала.
6. Принцип истории искусства как «истории искусства без имен».
От формулировки этого принципа Г. Вельфлином
к возникшей в ХVIII веке «идее» культуры
Конечно, ни Винкельман, ни Гегель не абстрагируются от личности выдающихся художников, но они и не сводят к истории творчества отдельных художников историю искусства. Пожалуй, то, что произошло в истории искусства в связи с резонансом работ Винкельмана и Гегеля, применительно к истории искусства было сформулировано в самом начале ХХ века «формальной» школой в искусствознании и, в частности, представителем этой школы Г. Вельфлином. Формализм в искусствознании был представлен как немецкой, так и русской школой. Немецкая школа разрабатывала новую методологию применительно к изобразительному искусству. Это объясняется тем, что Г. Вельфлина как немецкого искусствоведа интересовала проблема реабилитации стиля барокко, который длительное время не только не считался самостоятельным стилем, но вообще ассоциировался с упадком искусства. Между тем, в отличие, скажем, от Италии, культивирующей классические традиции, Германия лучше чувствовала те формы, что от классицизма отклонялись, а именно: готику и барокко. Поэтому исследование Г. Вельфлина имело, кроме всего прочего, и стремление начать новую эпоху в истории искусства – историю различных способов видения, а еще и сверхзадачу – реабилитацию барокко, более соответствующее ментальности немцев.
Что же касается России, то здесь разрабатывали свою методологию применительно к литературе, что, видимо, соответствует ориентациям русской литературоцентристской культуры. Принято считать, что формализм является системой представлений, мотивирующей движение искусства в сторону чистого искусства и освобождение его от множества социальных функций. Впрочем, это абстрагирование метода формалистов как от многих функций искусства, так и от многих его аспектов, изучаемых другими науками, для самих формалистов стало программным. Если русская «формальная школа» предметом внимания сделала формы сюжетосложения, то немецкая школа – формы визуального видения. Русская школа опередила ориентацию гуманитарной науки ХХ века на лингвистику, предвосхитив тем самым структурализм, что можно, например, иллюстрировать новаторским исследованием волшебной сказки В. Проппом, предвосхитившим методологию К. Леви-Строса.
Открытия немецкой «формальной школы» не менее значимы. Они тоже связаны с движением к структурализму. Существует даже мнение, что, например, Г. Вельфлина тоже, как и русских формалистов, можно считать предтечей структурализма [12]. Кроме того, исследования искусства как оптического феномена предвосхитили осмысление в ХХ веке того бума визуальности, который будет связан с функционированием технических искусств и прежде всего с кино и ТВ. Правда, открытия этого рода, сделанные Г. Вельфлином в границах западной живописи, трудно применить к стихии визуальности, вызванной к жизни с помощью новых технологий. Ведь эта стихия преодолевала не только те формы визуальности, что утвердились в барокко или даже в классицизме, но вообще возвращала к самым ранним в истории изображений тактильно-осязательным формам. По сути дела, по-новому открытая Г. Вельфлином история искусства как история становления визуальных форм закончилась. Изобразительная культура визуальных или технических видов искусства (фотографии, кинематографа и телевидения) вообще выводила за пределы истории искусства.
Исследуя ранние религиозные формы изображения, в которых эстетическое начало еще не успело развиться, Х. Бельтинг назвал свое исследование «Образы до истории искусства». В самом деле, существовала история изображений, в которых художественное начало еще не существовало или же было чрезвычайно слабым. История изображений как история искусства началась значительно позже. Но происходящие с середины ХIХ века, а именно: с появления фотографии процессы снова, как это было когда-то в архаических культурах, повели за пределы истории искусства. Закончилась история искусства, развертывающаяся в формах живописи, и началась история образов. Пожалуй, идея Р. Барта о «смерти» автора была актуальной уже в момент возникновения фотографии. Если прозрение Р. Барта признать за истинное, то исходная точка фиксируемого им процесса – это первые дагерротипы середины ХIХ века.
Итак, немецкая «формальная школа» выдвинула новый принцип в истории искусства. Ее предметом стала система видения. История искусства, как ее представлял Г. Вельфлин, оказывалась формированием системы видения и сменой одной системы другой. Конечно, каждая система видения для него означала какой-то определенный художественный стиль. С этой точки зрения история искусства мыслилась историей формирования и угасания стилей, их смены. Наиболее подробно Г. Вельфлин проследил смену систем видения в варианте классического ренессансного стиля и в варианте сменяющего его стиля барокко. Как следовало из исследования Г. Вельфлина, под стилем подразумевался вовсе не индивидуальный стиль, а то, что принято подразумевать под стилем эпохи. Это то, что в какой-то период в истории искусства объединяет разных художников. Так, Г. Вельфлин группировал художников, чьи произведения созданы в классическом ренессансном стиле и художников, работающих в стиле барокко.
Когда на первый план выходит та или иная система видения, значение индивидуальности в художественном процессе понижается. Этот отход от биографической методологии Г. Вельфлин выражает весьма парадоксальной формулой – «история искусства без имен». Так, сопоставляя таких разных художников, как Микеланджело и Ганс Гольбейн младший, Г. Вельфлин утверждает, что в определенном отношении их можно сблизить. В частности, общим для них является линейный рисунок. На основании таких сближений между разными художниками, как утверждает Г. Вельфлин, можно в истории искусства мыслить разные системы видения. Он пишет: «Другими словами: в истории стиля можно открыть нижний слой понятий, т.е. понятия, относящиеся к изображению как таковому, и можно дать историю развития западного видения, для которой различие индивидуальных и национальных характеров не имеет большого значения» [13].
В связи с этой ставшей очень известной формулой в истории искусства – «история искусства без имен» − любопытно напомнить признание самого Г. Вельфлина о том, как она была вызвана к жизни. «Специалистов больше всего взволновал принцип «история искусства без имен», – пишет он. – Не знаю, где я подхватил это выражение, но в ту пору оно висело в воздухе» [14]. Мы не случайно напомнили об этой формуле, поскольку вопрос о взаимоотношениях искусствознания и культурологии мы ставим в зависимости от того, как эта формула понимается. Чуть ниже мы еще вернемся к происхождению этой формулы Г. Вельфлина.
7. Методология социологии ХIХ века как исходная точка
принципа «истории искусства без имен»
Формулу «история искусства без имен» Г. Вельфлин выразил в своем подходе сполна. Однако «формальная школа» в истории искусства лишь осознала и сформулировала принцип, появившийся гораздо раньше. Он появился, прежде всего, в связи с актуальностью социологического подхода в ХIХ веке. Если придерживаться функционалистской парадигмы в социологии, то он связан с выявлением в искусстве социальных функций, которые от эпохи к эпохе могут меняться. С этой точки зрения процессы искусства оказываются проекцией социальных процессов. В этом ракурсе история искусства предстанет не в вельфлиновском варианте, т.е. как история систем видения, а как история изменений в социальных функциях искусства. Однако совсем не случайно, что когда ставится вопрос о происхождении вельфлиновской формулы, называют имя О. Конта как одного из патриархов социологии ХIХ века. Так, Ж. Базен утверждает, что истоком рождения принципа «история искусства без имен» явился тезис О. Конта «история без имен великих людей и даже без имен народов» [15].
Предметом истории искусства в ее социологическом варианте будут социальные функции искусства. Поскольку же речь идет именно об истории искусства, то историк в сфере искусства обязан проследить появление новых функций, их исчезновение, их смену, их трансформацию. Именно так ставит вопрос Р. Барт в своей работе о Корнеле, возвращая методологию истории литературы к социологическому подходу [16]. Вообще, возникнув в ХIХ веке под воздействием колоссального резонанса социологии, такой подход в последующей истории постоянно возрождается (Гаузенштейн, Хаузер, Федоров-Давыдов и др.). Реабилитация этого подхода произошла еще в 1920-е годы, а затем в 1960-е годы. Конечно, в ХIХ веке, когда можно было фиксировать возникновение и расцвет социологической рефлексии, так вопрос еще не ставился. Он стал актуален в связи с одной из социологических теорий ХХ века – функционализмом, представителями которого являются Т. Парсонс и Р. Мертон. Тем не менее, мы сегодня можем ретроспективно приложить эту методологию к процессам ХIХ века, в том числе, художественным.
Перенос акцента с биографического метода в истории искусства на социальные функции искусства – следствие активизации массы или массовой публики в художественной жизни. В массовом обществе успели произойти такие трансформации, что пришлось заново давать определения не только предмета изучения, специфического для историка искусства, но и собственно самого искусства. Одним из косвенных решений проблемы, «что такое искусство», является определение предмета истории искусства с помощью выявления его социальных функций. Искусством является то, что осуществляет определенные функции. А вот какие функции искусством осуществляются, на этот вопрос отвечает уже не просто художник или критик, но сама публика. Ведь искусство осуществляет только те функции, которые появляются как следствие возникающих тех или иных потребностей публики (ценностно-ориентационных, компенсаторных, воспитательных, развлекательных, гедонистических, катартических и т.д.).
Конечно, по поводу превращения социальных функций в предмет истории искусства возможны сомнения. Разве социальные функции так уж изменчивы? Разве за искусством не закрепляются какие-то функции, которые его сопровождают постоянно, на всем протяжении истории? Если искусство закрепляет за собой ряд функций, то, что же можно сказать о динамике, эволюции искусства? На это можно ответить так. Возникая, индустриальное общество демонстрирует исключительный динамизм, что можно иллюстрировать постоянно изменяющимися настроениями, вкусами, сменой представлений и т.д., что вызывает к жизни ответвления от социологии в виде социальных наук, вроде социальной психологии, психологии масс и т.д. В связи с этими изменениями возникает понятие не только явной, но и латентной функции искусства, которая рождается спонтанно и бессознательно. Она может не осознаваться не только историком искусства, но и самим художником. Этот исключительный динамизм поздних обществ во многом объясняется спецификой индустриальных или массовых обществ, в которых имманентная логика истории искусства под воздействием массовой публики трансформируется. Именно в массовом обществе в публику превращается все общество. Поэтому именно в это время возникает беспрецедентная зависимость искусства от публики [17]. Если кто-то из художников этой зависимости противодействует, он становится маргиналом, что в последние столетия оказывается типичным случаем.
Собственно, активность публики, как и многое другое, уже обращала на себя внимание в античности, в частности, в искусстве эллинистического периода. Так, описывая ансамбль Пергамского алтаря и, в частности, рельеф, изображающий битву богов и гигантов, Э. Гомбрих констатирует стремление скульптора спровоцировать у зрителя сильный драматический эффект. Такие же чувства вызывает и скульптурная группа Лаокоона. «Напрягшееся в муках, – пишет Э. Гомбрих, – в отчаянных усилиях мускулатуры торса и рук, страдальчески искаженное лицо жреца, скорчившиеся тела обреченных детей, наконец, умелое свертывание всех бурных противотоков в спаянную, устойчивую группу – все это с давних пор и по праву вызывало восхищение. Однако по временам меня гложет мысль, что это искусство было обращено к публике, находившей усладу в ужасающих зрелищах гладиаторских боев» [18].
В силу предельной зависимости художника от публики и предельной активности массовой публики в художественной жизни свое внимание историк уже сдвигает с личности выдающегося художника в сторону массы. Вообще, в отличие от искусства, публика имеет собственную историю. На поздних этапах истории интересно проследить взаимодействие этих двух историй – искусства и публики. Если историю публики помыслить как самостоятельную историю, то в нее приходится включать такие пласты истории искусства, которые историками искусства никогда ранее не рассматривались. Это только в начале ХХ века представители русской «формальной школы» привлекли к этой проблеме внимание. Не случаен их интерес, проявленный в конце 1920-х годов к проблеме социологии [19] Но история публики может быть и разделом собственно истории искусства, как, впрочем, таким разделом может быть и история критики.
Значимость истории публики очевидна не только в том случае, когда историк искусства использует сложившиеся в социологии представления. Эта ее значимость приобретает еще большее значение в случае культурологической интерпретации процессов истории искусства. Пора перестать отождествлять публику лишь с теми слоями общества, которые не имеют контакта с искусством или имеют минимальный с ним контакт. Это тот штамп, который возник в тоталитарных обществах, когда идеологи стремились контролировать все процессы и торопились в таких обществах сократить сроки возведения новых общественных структур. Взаимодействие между художником и публикой развертывается не в вакууме. Но оно и не сводится ни к идеологическим ориентациям, ни даже к художественным процессам. Оно происходит в контексте культуры. Культура определяет восприятие как социальных групп, субкультур и личности не только в сфере искусства, но, в том числе, и в сфере искусства. Усилия социологов не случайно предпринимаются по поводу типологизации публики или выделения в ней разных типов. Ведь, в конце концов, вопрос о наличии тех или иных социальных функций искусства невозможно разрешить, не имея представления о существовании разных типов публики. Например, наиболее известным опытом выделения типов публики был проделан Т. Адорно на примере посетителей музыкальных концертов [20].
В данном случае типологизация будет выражением духа деперсонализации. Ведь социолог пытается в массе найти реципиента не как уникальную личность, а именно, как тип, т.е. его интересует то общее, надиндивидуальное, что объединяет представителей какой-то социальной группы или субкультуры. В этом и заключается то новое, что приносит с собой массовое общество и на что пытается отреагировать наука и, кстати, не только социология, но и культурология. Только для социолога важно обнаружить в массе типы, причем, безотносительно к культуре и истории, а культурологу важно понять, почему общество на определенном этапе трансформируется в массу и как эта масса, утратив прежние ценностные ориентации и нормы, должна их снова сформировать в соответствии с ориентациями культуры. Сформировать новые предписания и нормы или же вернуться к той ситуации, что существовала до омассовления как следствия возникновения индустриального общества. Иначе говоря, ориентации публики, а, следовательно, и ее реакции в сфере искусства зависят не только от идеологических установок. Они зависят, прежде всего, от культуры.
В 1960-е годы, когда поднялась третья волна интереса к социологии, эта наука активизируется, чтобы осмыслить расхождение между идеологией и культурой. К этому времени становится все более очевидным то, что культура освобождается от идеологических пут, стремясь вновь обрести самостоятельность [21]. Так что социология оказалась средством утверждения этой тенденции и впрямую подводила к необходимости создания специальной науки о культуре, хотя сами социологи и не осознавали этой функции своей науки. Публика постигая искусство, способна его постичь лишь на том уровне, который задается культурой, в которой имеются субкультуры, опережающие художественные процессы или же от них отстающие. Понятно, что урбанизационные процессы в последнем столетии, когда человек-мигрант отрывается от императивов традиционной культуры, становится причиной болезненно переживаемых процессов. Понятно, что этот разрыв человека-мигранта, становящегося человеком массы, оказывается причиной возникновения массовой культуры как компенсаторного механизма.
Однако было бы неверным художественную жизнь в массовом обществе сводить исключительно к массовой культуре. Художественная жизнь в городах на том этапе, когда происходит становление массового общества, является предельно плюралистичной. Образование внутри общества множества групп и субкультур становится причиной и возникновения разного типа художников, что свидетельствует о том, что творчество тоже имеет социологический аспект. Если публика отвергает какое-то явление искусства, то это обусловлено существующими в каждой жизнеспособной культуре ограничениями и нормами. Вопрос, связанный с публикой, свидетельствует о том, что интерпретация фактов истории искусства с точки зрения социологии, предполагающей ставить акцент на социальных функциях искусства, уже собственно впрямую подводит исследователя к культурологической интерпретации процессов художественной жизни. История искусства не может быть только историей создания шедевров и творчества гениев, эти шедевры создающих. Это одновременно и история культуры, в которой имеется разгадка всех расхождений искусства с публикой, всех вариантов невостребованности тех или иных художников, тех драматических примеров невозможности реализации того потенциала разных типов личности, которыми полна история искусства.
[1] Хренов Н.А. История искусства как научная дисциплина: некоторые суждения о ее актуальном состоянии и методологических перспективах // Искусствознание. 2011. № 1. С. 33.
[2] Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней. М.: Прогресс-Культура, 1995. С. 119.
[3] Там же. С. 121.
[4] Там же. С. 403.
[5] Прокофьев В.Н. Художественная критика, история искусства, теория общего художественного процесса: их специфика и проблемы взаимодействия в пределах искусствоведения // Советское искусствознание. Вып. 2. М.: Советский художник, 1978.
[6] Хренов Н.А. История искусства как история культуры // Культура и искусство. 2011. № 1. С. 92.
[7] Давыдов Ю.Н. Искусство как социологический феномен. К характеристике эстетико-политических взглядов Платона и Аристотеля. М.: Наука, 1968.
[8] Лазарев В.Н. Освальд Шпенглер и его взгляды на искусство. М.: Издание А.Г. Миронова, 1922.
[9] Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М.: ТЕРРА, 1991. С. 287.
[10] Гёте И.В. Винкельман и его время // Гёте И.В. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 10. М.: Художественная литература, 1980. С. 171.
[11] Там же. С. 171.
[12] Базен Ж. Указ. соч. С. 137.
[13] Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М.-Л.: Академия, 1930. С. 14.
[14] Базен Ж. Указ. соч. С. 136.
[15] Там же.
[16] Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 231.
[17] Хренов Н.А. Публика в истории культуры. Феномен публики в ракурсе психологии масс. М.: Аграф, 2007.
[18] Гомбрих Э. История искусства. М.: Искусство – XXI век, 2013. С. 111.
[19] Шкловский В.В. В защиту социологического метода // Новый Леф. 1927. № 3.
[20] Адорно Т. Избранное: Социология музыки. М.-СПб.: Университетская книга, 1999.
[21] Хренов Н.А. Социологические исследования театра в контексте становления социологического и культурологического знания // Дмитриевский В.Н. Театр и публика. Опыт социологического исследования 1960-1970-х годов. М.: Государственный институт искусствознания, «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013.
Статья поступила в редакцию 15 февраля 2015 г.
Хренов Николай Андреевич,
доктор философских наук, профессор,
заместитель директора по научной работе
Государственного института искусствознания
Министерства культуры РФ.
e-mail: nihrenov@mail.ru

ISSN 2311-3723
Учредитель:
ООО Издательство «Согласие»
Издатель:
Научная ассоциация
исследователей культуры
№ государственной
регистрации ЭЛ № ФС 77 – 56414 от 11.12.2013
Журнал индексируется:
Выходит 4 раза в год только в электронном виде
Номер готовили:
Главный редактор
А.Я. Флиер
Шеф-редактор
Т.В. Глазкова
Руководитель IT-центра
А.В. Лукьянов
Наш баннер:

Наш e-mail:
cultschool@gmail.com
НАШИ ПАРТНЁРЫ:
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Культуру культуры» обязательна.
© Научная ассоциация исследователей культуры, 2014-2024







